Мне было страшно, свободно и легко, как это бывает перед прыжком со скалы в море, когда остается одно мгновение до шага в никуда, и вот, в мастерской, пронизанной светом и пропахшей скипидаром и льняным маслом, в мастерской, где скрипел уголь и шуршала бумага, я сделал этот шаг. Впрочем, ничего я не сделал. Это произошло помимо моей воли. Просто случилось.
И еще одно: я должен был к ней прикоснуться. В эти мгновения я понял, что испытывал Художник, когда в музее украдкой трогал живопись и гладил мрамор. Тогда я, сам того не осознавая, понял, что истинный язык любви — это не слова, не поступки, даже не чувства. Истинный язык любви — это прикосновение.
Уже потом мне стало известно, что именно во взглядах на любовь Аптекарь расходился со своим любимым Doctor Universalis, поскольку последний истинной любовью, естественно, считал любовь платоническую.
— Надо прислушиваться к тому, что заложено в языке, — размышлял Аптекарь. — Во всех языках ребенок называется плодом любви. А плод не есть результат слов или духовных побуждений. — Слово «духовность» со всеми производными Аптекарь всегда произносил с легким оттенком презрения, утверждая, что предпочитает десять раз услышать слово «жопа», чем один раз — «духовность». — Плод не может завязаться без физического контакта, то есть без прикосновения. И никакие слова не могут выразить то, что может сказать прикосновение — единственный подлинный язык любви…
— Ну, довольно на сегодня. Спасибо, Зайчик.
Голос Художника вывел меня из ступора. Зайчик. Значит, ее зовут Зайчик?
Девушка улыбнулась, потянулась по-кошачьи и спрыгнула с подиума. Мастерская наполнилась гулом голосов. Художник подошел ко мне, и я, путаясь в словах, сообщил ему последнюю новость.
— Ну-ну. — Художник поскреб в бороде, покачал головой и снова произнес: — Ну-ну.
— Мастер, — пискнула худая женщина с выпуклыми блестящими глазами, — вы не могли бы посмотреть…
Художник отошел к ее мольберту, а я повернулся к девушке — она была уже одета: джинсы, черная майка. Вид у меня, наверное, был придурковатый, потому что она усмехнулась и сказала:
— А мы с тобой встречались. Не помнишь? У цирка. Ты меня чуть не опрокинул.
— Так это ты была на ходулях?
— Я. — Смех шевельнулся в ее горле и курлыканьем прорвался наружу. — Не обижайся. Пойдем мороженое есть, я угощаю. Не ломайся. А то мне проку от заработанных денег не будет.
Недалеко от «Ренессанса» нам повстречалась старуха в длинном темном платье. Лицо ее пряталось за плотной вуалью, свисавшей с широких полей соломенной шляпы с ветвью искусственных цветов на тулье. Зайчик подбежала к ней, сказала что-то на ухо и сунула в руку монету. Потом схватила меня за рукав и потащила в кафе. На ступенях я оглянулся: за проходящим трамваем мелькнула шляпа старухи, и мне почему-то показалось, что где-то я ее уже видел.
В «Ренессансе» Зайчик внимательно изучила меню и выбрала по шарику персикового, виноградного и лимонного. Я, поколебавшись, остановился на шоколадном, ванильном и крем-брюле. Над нами навис официант.
— Ты пить что будешь?
— Сидр, пожалуйста.
— А я — рэд булл, — она засмеялась, — гадость конфетная, а все равно нравится. Так ты у Аптекаря работаешь? Классный он мужик.
— А ты откуда знаешь?
— В этом городе, — она дернула плечом, — все про всех знают.
Она аккуратно ела мороженое, время от времени облизывая быстрым язычком верхнюю губу.
— А почему тебя зовут Зайчик? Ушки у тебя вроде нормальные.
— Ушки нормальные, — охотно согласилась она, — и хожу я нормально, не вприпрыжку. Это Художник так меня прозвал. — Она облизнула ложку. — У него картинка никак не выходила. Мне-то здорово нравилось, и похоже. Но он все стирал, переделывал, потом порвал лист и говорит: «Ты как солнечный зайчик — все видят, а поймать никто не может».
Смех снова шевельнулся в ее горле, а я даже позавидовал, как это он, Художник, всегда точно все определяет. Она и впрямь была легким сгустком света. Люди вокруг поглядывали на нее, и на их лицах было то недоуменно-напряженное выражение, которое бывает, когда человек пытается припомнить что-то давным-давно забытое, возможно, то время, когда биржевой курс и последние новости ничего не значили по сравнение с солнечным зайчиком, танцующим на аллее парка.
Потом мы шли по набережной, мимо обветшалых особняков с колоннами и облупленными кариатидами, мимо новых, блестящих темными стеклянными стенами отелей, и ветер прижимал к нашим ногам летающие по тротуару пластиковые пакеты и обрывки бумаги. Она рассказывала мне про свою труппу, про то, что мечтает поехать учиться в парижскую школу уличного театра, но жить в Париже не хочет, потому что жить в городе без моря нельзя. Волны с шумом разбивались о камни, и соленые брызги поблескивали в кольцах ее черных волос. Она рассказывала про своих родителей, про старшую сестру, душевнобольную, про то, как она их любит, но жить с ними не может.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
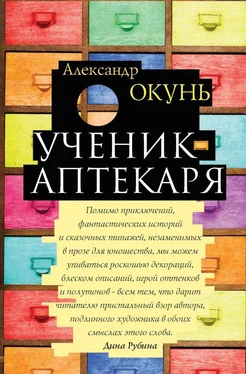

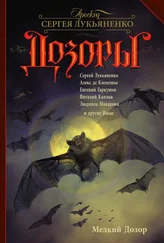




![Александр Курзанцев - Ученик поневоле [litres]](/books/387942/aleksandr-kurzancev-uchenik-ponevole-litres-thumb.webp)


