Провожаемые взглядами давным-давно ушедших из жизни фаюмцев, мы медленно двигались от витрины к витрине.
— Видишь ли, малыш, здесь, среди этой греческой халтуры, я чувствую себя комфортней, чем среди шедевров. Там ты находишься в присутствии Божества. Да, ты удостоился великой чести, но страшновато, не так ли? Ты словно ослеплен, подавлен этим немыслимым совершенством, а здесь — здесь ширпотреб, который везли на агору, — по каким там дням был у них рынок? — всех этих домашних божков, танцовщиц, сатиров… Там — творения гениев, обитающих на Парнасе, а здесь — поденный труд ремесленников, озабоченных тем, чтобы заработать несколько драхм на починку хижины, на то, чтобы на столе были хлеб, сыр, горсть маслин, кувшин вина, а при удаче — кусок козлятины или баранины в праздник. И все же, вот, смотри, прошло время, поотбивались там нос, здесь рука, облупилась краска, за долгие годы смылся грим — и обнажилась душа. Душа античности, с ее прямым, простым и ясным взглядом. И нигде ее не видно так, как в этих маленьких халтурах. Великий художник, будучи сыном своего времени, вышивает по его канве свою собственную вариацию, а этим халтурщикам было не до индивидуализма, поэтому, вместо того чтобы озаботиться интерпретацией, личным взглядом, они пользовались готовыми приемами, простодушно занимаясь главным. Их имена, и по справедливости, растворились во времени, но благодаря им сохранилось само время. Ты почувствуешь это на вилле Мистерий в Помпеях, где бригада кочующих ремесленников срубила жирный подряд, исполнила все как можно быстрее и в поисках заработка двинулась дальше, оставив за собой фрески, превзойти которые не удалось никому.
От греков мы шли в залы Ренессанса.
— Свет — это не физическое, а историческое понятие, — вслух рассуждал он, не отрывая глаз от гирландайевского портрета Тарнабуони. — Ты не можешь в точности определить время суток, но это и не важно, потому что из окна на эту девушку струится нежный, прохладный утренний свет Ренессанса. Свет — это всегда свет эпохи. Поэтому он такой разный. Ровный, золотистый полуденный свет античности, метущийся, мерцающий ночными зарницами свет барокко, бездушный люминесцентный свет двадцатого века…
Он научил меня видеть конструкцию, динамическое равновесие между главным и второстепенным, деталями и общим, связующую их иерархию, где главное — монарх немыслим без подданных — фон, а подданные бессмысленны без монарха.
Он научил меня слышать живопись. Мы часто стояли перед тициановским портретом Карла V, того самого, у которого достало величия и благородства поднять упавшую кисть гениального венецианца. Я смотрел на усталое лицо испанского короля и живо ощущал всю меру доверия, которую испытывал всегда подозрительный Карл к стоящему перед ним живописцу. В комнате было холодно. Короля мучила подагра, но он не шевелился. Холод пробирался под черный, подбитый мехом плащ, но он не подавал виду, ибо мастер был одет легко. Пахло прелыми листьями и сыростью. Была осень. Карл задумчиво рассматривал живописца: а уж не выйдет ли так, что именно этот, возникающий под его кистью холодный вечер, который заставляет еще сильнее ныть и без того болящую ногу, да и сам он, усталый, отягощенный непомерными заботами правитель, а точнее, изображение этого вечера и его самого, — только это и останется от всех его трудов, от его империи, на которую он положил столько сил, над которой никогда не заходит солнце? Красный ковер грел затянутые в черные чулки ноги. В перчатку пряталась стынущая рука. Открывающийся из лоджии пейзаж был наполнен воздухом наступающего вечера и влажным ветром с моря. Спокойный взгляд Карла ничего не скрывал: ни усталость, ни боль в ноге, ни поселившуюся в сердце печаль. Было тихо, только изредка там, среди деревьев, жалобно вскрикивала птица. Прозрачный предзакатный свет почтительно и нежно окутывал одинокого, зябнущего человека. Он смотрел на увлеченно работающего мастера, словно ожидая от него ответа на свои непроизнесенные вопросы, и вдруг усмехнулся неожиданно возникшей мысли, что, скорее всего, они оба знают ответ, но ни один из них не осмелится озвучить его, и что, наверное, для этого и существует живопись, чтобы говорить то, что вслух произносить нельзя…
В зале под ногами посетителей негромко поскрипывал паркет. Люди ненадолго задерживались у портрета императора и короля и торопились дальше, в другие залы, где висели картины других знаменитых художников. И король по-прежнему оставался одинок.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
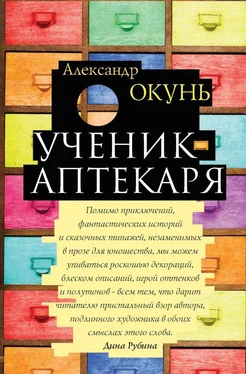

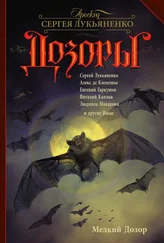




![Александр Курзанцев - Ученик поневоле [litres]](/books/387942/aleksandr-kurzancev-uchenik-ponevole-litres-thumb.webp)


