* * *
Через четверть века я принял рукоположение в этом храме и прослужил в нем шесть с половиной лет у мощей великого святого — святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского.
Это история об обыкновенном пеньковом канате. Хотелось бы верить или выдумать, что он пропах солеными ветрами, пушечным порохом, по́том, восточными пряностями и чем-то вообще невозможным, что бывает там, куда уплывают парусники. Но ничего такого, конечно, не было. Куску пенькового свивка, что пришелся на этот канат, повезло меньше корабельного. Его обрезали со всеми его амбициями — на высоту школьного спортивного зала. И повесили, чтобы кто-то елозил неумелыми ногами, забираясь как можно выше.
Так он провисел я не знаю сколько, пока мы не встретились. Я вообще не всегда могу понять себя в детстве. Нет, я сочувствую тому человечку, за которым может увязаться молодой и глупый бродячий пес. Но я бы теперь не смог вот так — привести его домой и канючить у близких, чтобы оставили, и выбегать каждые десять минут смотреть — как он там, и кормить котлетами от школьных обедов, и чуть ли не спать с ним на одной блохастой подстилке.
Я не знаю, зачем их забрал… щенка и канат. Ну, щен хоть увязался, а канат…
Я в этом спортивном зале раньше ни разу не был. Вот так, ходил на физкультуру в школьных разведанных недрах и даже, наверное, знал, что есть еще какой-то там «старый», через дорогу, спортзал, — ну, знал и знал, и что с того? А тут вдруг зашел и не то чтобы оторопел… Даже не знаю, как это назвать…
Это было когда-то храмом. Вот в чем дело. Я раньше не знал, да и не был в храме вообще никогда, а тут вдруг зашел и все сразу понял. Храм. Но сейчас здесь было как-то невозможно, зверски все переломано и исковеркано. Вообще вдрызг. Как будто директор устало махнул рукой на все и сразу. И мальчишки праздновали бардак от души. Катались на одном оставшемся канате, прыгали, орали, а второй канат, тот самый, просто валялся… кажется, даже не внутри, а у входа. А внутри я помню какие-то очень высокие, благородные окна, и в них много солнца, и какая-то тонкая грусть в этом обилии света, и что-то еще неуловимое, не от спорта совсем, а от другого, давнего… И я не скакал, а что-то иное во мне пробуждалось. Какое-то щемящее и мучительное воспоминание.
Я вышел и вот — канат. Точно, он на земле валялся, кто-то его выволок да так и бросил — жертву революционного погрома. Я взял его и потащил домой, как раненого товарища. И дотащил.
А возле старенького нашего домишки в палисаднике росла и прилично-таки вымахала уже акация. И вот я каким-то чудом упросил родителей привязать этот канат к самой-самой высокой, но надежной и толстой ветке.
Конец каната затянули большим узлом. На него садились верхом, раскачивались и… в-верх — в-вни-и-з-з-з… в каких-то своих озарениях, пока тебе не закричат:
— Хорош. Слезай давай! Покатался и хватит… Люди ждут!
Вот это был праздник! Вся детвора приходила к нам покататься на этом канате. Очередь занимали, спорили, кто лучше умеет, да кто первый и кто за кем занимал… Можно было просто качаться, а можно было так, чтобы дух захватывало, — отталкиваясь ногами от соседской стены. Можно было даже запрокинувшись, или с «закрутом», или не сидя, а стоя на узле. Да мало ли как…
А потом я помню свой последний приход в мойдом, в тот дом, кроме которого я вообще ничего не знал в жизни. А в нем было так непривычно пусто и тихо, и вся мебель уже вывезена. И давно околел от чумки увязавшийся за мной когда-то Бим, и черепаха Машка, так смешно поедавшая вьюнки в палисаднике, пропала куда-то. Говорили, что ее кирпичом соседка… А за что?! Она же ничего плохого сделать просто не могла… И каната уже тоже не было, и ничего… И я вдруг отчетливо, до жути понял, что прощаюсь со своим единственным и родным домом навсегда. Я еще сделал шаг, другой в непривычной и беспомощной пустоте комнат и вдруг, вдохновленный пустынным эхом, может быть родственным отдаленно тому,остановился и как-то так, как слышал в кино, и почему — даже не знаю — громко возгласил единственное, что знал из церковного: «Иже еси на Небесех!». Иже еси! И все. И пошел в такую мучительную и страшную (если бы я только знал — какуюстрашную) взрослую жизнь.
И хорошо, что это только потом спилили нашу акацию, а на месте снесенного храма-спортзала построили магазин, — хорошо, что потом, а то бы я просто не выдержал этого… Тогда.
Читать дальше
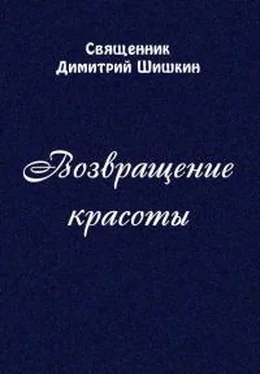



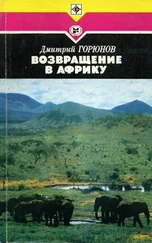
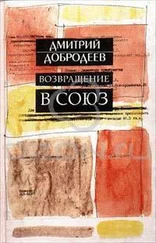

![Дмитрий Янковский - Возвращение волхва - Против тысячи втроем [СИ]](/books/432391/dmitrij-yankovskij-vozvrachenie-volhva-protiv-tysyach-thumb.webp)




