— Скажи… Отец Илия здесь?.. Как его найти?
— Илий, — поправляет сурово.
— Ну да… Илий… Здесь он?
— Ну как — здесь?.. Вот, в храме не было, — отвечает словно бы с усмешкой и как-то неохотно, с ленцой.
— Да нет, я в смысле… В монастыре он сейчас или нет?
— Вроде был.
Я понимаю, что парняге нет никакой охоты со мной разговаривать, но для меня это очень важно, и я все-таки пристаю с расспросами навязчиво, как нищий у церковных ворот:
— А как его найти?
— Ну как?.. — в голосе слышится уже явное раздражение и досада. — В храме, на дворе — я не знаю, — где придется!
— А утром он будет на службе?
В воздухе повисает безмолвное «уф-ф!».
— Не знаю. Ничем не могу помочь.
— А старцы еще есть в монастыре?.. Отец Феодор вот…
Дальше паренек разговаривает уже явно сдерживая себя, через силу.
— Не знаю такого… Вообще-то старец у нас один.
— Ну да… Конечно… Я имел в виду — опытные монахи есть еще?.. С кем побеседовать можно, совета спросить?
Он молчит, и видно, как надоели ему эти бестолковые, назойливые паломники.
— Не знаю я!
— Ну, прости…
Мы продолжаем идти рядом — теперь уже решительно молча — по одной тропе. Идем, поскрипываем снежком, дышим… Вышли из монастыря, перекрестились, положили поклон и дальше идем… И опять рядом — плечо в плечо. Ну что поделаешь, если нам по пути?..
В трапезной людей немного. Помещаются сразу все, и даже остаются свободные места. Я замечаю, что некогда общий зал разделен теперь надвое и столы стоят не вдоль, а поперек. На столах миски, кастрюли с кашей пшеничной, гороховое пюре, суп, редька, хлеб — всего вдоволь. Паломники гремят оживленно и бодро скамейками, рассаживаются, разбирают тарелки, ложки…
Юноша в бороденке негромким, смиренным голосом обращается ко всем сразу, но так, что услышать могут только ближайшие.
— Ну что, помолимся, братья?.. — кажется, хотел добавить еще и «сестры», но спохватился.
Все встают и начинают каждый на свой манер, фальшиво и невпопад петь молитву, так что получается невообразимая какофония. Я ничего не могу разобрать, пытаюсь уловить тон, вывожу голосом затейливые рулады, но понимаю в конце концов, что пения не будет. Стараюсь, по крайней мере, четко выговаривать слова и все-таки чувствую себя довольно нелепо.
Наконец молитва окончена, и все приступают к трапезе.
Юноша — все тот же, — ссутулившись, стоит в дверном проеме (так, чтобы слышали в обоих залах) и читает приглушенно, размеренно житие митрополита Петра. Когда в трапезной становится слишком шумно, юноша умолкает и ждет. В глазах у него появляется грусть. Но кажется, никто не обращает на его грусть внимания; он останавливается часто и подолгу сокрушенно стоит, склонив голову, молча.
— Дайте, пожалуйста, капусту, — слышу за плечом.
— Это не капуста, а редька.
— Ну редьку дайте.
— Попросите на том столе, у нас у самих мало…
Но через минуту виновато, жалостливо:
— Кто там редечки просил? Возьмите вот…
После трапезы знакомой тропой (словно и не было десяти лет) бреду через лес в скит. Гуськом идут и другие паломники, привычно, по-домашнему переговариваясь вполголоса. Это «свои» — давние… Как мне это знакомо!.. И все-таки я чувствую себя новичком. Что поделаешь? Все меняется…
Гостиница теперь отделена от двора деревянной изгородью. К двери ведет высокое крыльцо, сколоченное из сосновых досок. Поднимаюсь по проседающим, скрипучим ступеням, вхожу… В «предбанничке», в углу, — жестяной вогнутый лист с изображением преподобного Амвросия, старца Оптинского. Еще одна дверь — и передо мной оказывается отгороженная в торце коридора вахтерка с окошечком. Раньше ее не было.
Мне отчего-то делается тоскливо, как будто я пришел устраиваться подсобником на какую-нибудь безнадежно затянувшуюся зимнюю стройку. Как будто все начинается заново…
За вахтенным окошком спокойный, неторопливый человек с выпуклыми печальными глазами. Обращаюсь к нему:
— У вас можно оформиться в гостиницу?
— Я вообще-то этим не занимаюсь… Нужно дождаться иеродиакона Петра. Вот он — комендант общежития, а я просто так — дежурный. Подождите…
Я маюсь в тесном сумеречном коридоре, и все мне кажется здесь каким-то по-стариковски неустроенным, тусклым. Понимаю умом, что что-то со мной не так, но ничего не могу поделать, и от этого становится еще тоскливее.
Из комнаты, шаркая тапками, кашляя, выходят бородатые нечесаные паломники в обвисших «спортивках» и направляются один за другим к чугунному умывальнику в самом темном закутке — под лестницей. Там они плещутся, фыркают, пересмешничают осипшими, грубыми голосами. Все обыденно, просто… как, впрочем, и должно быть в общежитии.
Читать дальше
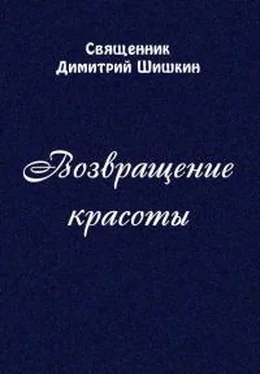



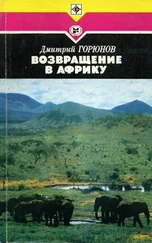
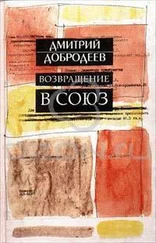

![Дмитрий Янковский - Возвращение волхва - Против тысячи втроем [СИ]](/books/432391/dmitrij-yankovskij-vozvrachenie-volhva-protiv-tysyach-thumb.webp)




