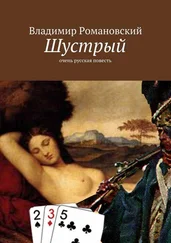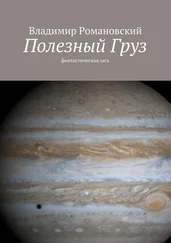Владимир Романовский - Русский боевик
Здесь есть возможность читать онлайн «Владимир Романовский - Русский боевик» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Русский боевик
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Русский боевик: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Русский боевик»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Версия с СИ от 12/05/2008. * * *
Русский боевик — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Русский боевик», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
— Чехов! — удивилось начальство.
— Здравствуйте, — холодно сказал Эдуард. — Мне не нравится отношение ко мне некоторых сотрудников, а также вышестоящих лиц, у которых, казалось бы, должно быть больше здравого смысла — все-таки не в тресте каком-нибудь работают, не в торговле!
— Вы это о чем? — строго спросило начальство, обидевшись на обвинение в отсутствии здравого смысла.
— Я приезжаю с операции, в которой мне пришлось все брать на себя, а на квартире у меня обыск! Ни здрасте, ни поздравляем вас с возвращением, счастье, что вы живы! Это как — благодарность мне такая? За добрую службу?
— Это вы, Чехов, что-то не то говорите…
— Я избавил вас, между прочим, от необходимости отдавать неприятные приказы. Черт с ней со службой, но есть отчетность, она вас беспокоит гораздо больше, не так ли? Я застрелил Ольшевского…
— Чего-чего?
— Когда я увидел, что задумал Ольшевский — после того, как он водил за нос весь отдел в течении двух лет, а вы и ухом не повели! — мне ничего другого не оставалось. Это было откровенное предательство, продажа, переход на чужую сторону, провокация — все вместе! У меня, верного своему долгу выхода не было! О нахождении трупа Ольшевского вам, надеюсь, сообщили?
— Чехов…
— Сообщили или нет?
— Да.
— И после этого вы посмели сомневаться в моей лояльности, в преданности делу! Устроили обыск! Прихожу — какие-то двое, очкарики, переворачивают мою квартиру вверх дном, а сука Андреев стоит у двери, ухмыляется. Можете его навестить, он там в больнице, неподалеку…
— Ты его отправил в больницу?
— Вы правы, нужно было отправить в венерологический диспансер. Это, начальник, свинство! Неблагодарность черная! Знак Зверя!
Начальство, ошарашенное, замямлило что-то о продолжении работы, о планах, о возможном повышении. Рассерженный Эдуард сказал, что ему требуются теперь две недели отдыха. И вышел, точно зная, что две недели безопасности он себе обеспечил. А что дальше?
Всякое возможно. Мотаются по миру агенты, не нужные больше своим конторам — не всех их убирают, многих и убирать-то лень, да и опасно, да и зачем попусту тратить силы. Много их, агентов. Вот Милн, к примеру. Живет, судя по всему, интересно. Если их много, то, наверное, можно было бы организовать какое-нибудь общество таких агентов. И можно отхватить сколько-то власти, или действительно основать новую страну. Ну, посмотрим.
Эдуард не знал, что такое Общество уже существует. Просто не всех туда берут.
— Смешная ты, Надежда, — сказал он сотруднице, недавно оказавшей ему хорошую услугу. — Я не отказываюсь, а просто говорю — смешная.
— Не хами, рейнджер, — строго повелела ему Надежда, застегивая богемную куртку до горла. — Мы с тобой знакомы со школы еще, не так ли?
— Так.
— Знаем друг друга очень хорошо. Так?
— Так.
— Ты мне должен.
— Я ж говорю — смешная.
— Слово надо держать.
— Я держу.
— Сегодня вечером будешь у нас. Я Томке обещала.
— Ты, Томка, и я?
— Да. А то Томка скучает последнее время. И чтобы никому ни слова.
— Она очень страшненькая, эта твоя Томка?
— Дурак. Томка — золото. Просто она мужчин очень боится. И не доверяет. Я ей сказала, что ты — друг детства.
— Дуреха ты, Надька.
«Евгений Онегин» — опера бросовая, никакая, в ней вся партия меццо — десять тактов. Ну, хорошо, сто тактов, но что это меняет? Баритонально измывается Онегин, пускает белькантовую слезу Ленский, визжит пищалка Татьяна — а меццо появляется только в первом акте. Ну, хорошо, во втором тоже появляется — совсем немного. А если после третьего акта выйдешь кланяться, то никто и не помнит уже, что ты там пела и кто ты такая, все цветы бросят пищалке. Поэтому меццо, которую подписали на партию Ольги, после сцены бала во Втором Акте просто тупо берет такси и едет домой.
Аделина так давеча и сделала.
Но сегодня — совсем другое дело. Сегодня днем появился на генеральной репетиции страшный Валериан — помахать руками — и дирижер Алексей Литовцев протянул ему палочку и удалился в тень. «Аида» — очень ответственная вещь. Очень.
Еще не до конца утих скандал, устроенный в очередной раз Василисой Бежкиной, обвинявшей жидов в лице Бертольда Абрамовича Штейна в кознях и ползании перед какими-то одесскими торговками, притворяющимися певицами мирового уровня. В быту Машка Гулегина, о которой шла речь, действительно иногда напоминала одесскую торговку в каком-нибудь мясном магазине на Привозе. Бертольд Абрамович, у которого помутился, очевидно, его еврейский разум в связи с тем, что директора театра, Мориса Будрайтиса, большого любителя мороженого, наконец уволили в пизду, а на его место назначена была некто Айзель Абдразакова (к басу Ильдару, как говорили, отношения не имеющая, Ильдар хороший парень, свойский, и так далее), и эта самая Айзель (имя ее в переводе с турецкого и азербайджанского означало, как говорили, «на луну похожая») на луну похожа совсем не была, а похожа была на еб твою мать — Бертольд Абрамович, перепугавшись, сгоряча сговорился с импресарио Машки Гулегиной, чтобы Машка попробовала себя в новом амплуа. Айзель не возражала. Она пока что привыкала к отношениям в театре, присматривалась. Правда, она уже начала покрикивать на некоторых исполнителей, и Полоцкая ее раздражала больше всего, почему-то. Что-то у них там не заладилось. Возможно, Полоцкая нахамила Айзели, или Айзель нахамила Полоцкой, и Полоцкая сорвалась и ответила тем же, и теперь получалось, что Полоцкая — хамло, по мнению Айзели. Дама среднего возраста, в весе, крашеная блондинка, Айзель сердилась своеобразно — сидела во время репетиций не в кабинете, а возле сцены, и таращилась на Полоцкую азербайджанскими своими глазищами.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Русский боевик»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Русский боевик» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Русский боевик» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.