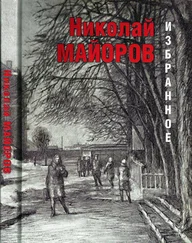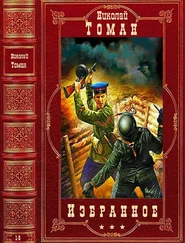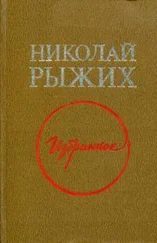Отец Никифор закончил молитву и сел обедать.
Чугунок со щами уже дымился на столе, попадья нарезала хлеб и лук.
— Сейчас-сейчас, касатик, проголодался, чай, — приговаривала она, нежно, но робко поглядывая на отца Никифора.
— Ну, что ж, — сказал тот, устало взглянув на попадью, — водочку-то неси.
Попадья засеменила к погребу:
— Холодненькой достану, что Пантелеймон давеча принёс.
Вот уж и голова попадьи с поднятой над ней бутылью показалась из погреба. Да видать поспешила она, оступилась. Грохот и звон бьющегося стекла вывели батюшку из задумчивости. С минуту сидел он, слушая оханья попадьи и осознавая случившееся, а осознав, только и молвил:
— Тьфу, дура ёбаная, — и снова погрузился в свои мысли.
Вся деревня знала, что Анфиска — блядь.
Идёт она, бывало по улице — морда накрашена, подол за пояс заткнут, не то что ляжки — чуть ли не жопа видна — и бесстыжими глазами по сторонам зыркает.
Пелагея, отца Никифора соседка, тут сразу же за коромысло — и давай мужика своего хуячить — чтоб неповадно было. И уж по всей деревне бабы окна да двери затворяют.
И только отец Никифор тогда выходит из дому, становится посреди улицы и плюёт, плюет ей вслед, пока та совсем не скроется из виду.
Отец Никифор ждал в гости отца Онуфрия из соседней Хряковки.
Попадья напекла пирогов с мясом и с капустой. Она уже волновалась:
— Глянь, батюшка, времени-то уж осьмой час, а отец Онуфрий всё чтой-то не едет.
— Приедет, — успокаивал её отец Никифор, — куда он денется, скотина.
Отец Никифор захворал: вечером жар начался, ночь спал плохо, всё охал да ворочался, попадья извелась вся.
С утра пришли его проведать купец Пантелеймон да Николка Ебанько, столяр. Видят — жар не меньше, Николка и говорит:
— Может за доктором съездить?
— Да не любит он их больно, докторов-то, — отвечает попадья.
Тут и больной глаза открыл и говорит:
— Не люблю. Не люблю докторов. И столяров не люблю. И купцов не люблю. Дармоеды.
Однажды отец Никифор увидел Диавола.
Был он тогда у Пантелеймона на именинах и вышел на двор по нужде.
Видит — Он, возле амбара маячит. Отец Никифор — в сени, схватил пантелеймонову двустволку, валенки надел, и на улицу.
Тот от него удирает через огороды, в поле, в лес уйти норовит. Но и отец Никифор не отстаёт: через изгороди, по сугробам… Остановится, прицелится, стрельнет, и снова за ним…
Только к утру вернулся. И слёг: месяц хворал. Говорит, убил. Уж за версту от Хряковки. Мужики ходили, правда, не нашли ничего.
Чёрт его знает, дело тёмное.
Любил отец Никифор по утрам ходить на косарей смотреть. Смотрит, как мужики сено косят, любуется: «Ладно косят!» — думает. Аппетит нагуляет и к обеду домой возвращается.
Возвращается, думает: «Вот сейчас пельменей покушаю.» А в тот раз попадья блинов напекла.
— Отведай, — говорит, — со сметанкой, с грибочками или с вареньем.
— Сметанка, грибочки, — передразнил отец Никифор, — водка да рыла свиные кругом. — И, вздохнув, только немного съел и пошёл отдыхать.
Отец Никифор поужинал и теперь сидел возле печки и смотрел на огонь. Тут на улице мужики затеяли драку. Отец Никифор поспешил к окну. Но мужики подрались совсем недолго и разошлись. Тогда отец Никифор вернулся к своему месту возле печки и продолжал смотреть на огонь.
— Ну что, отпущаешь грех мой, или как? — повторил батька Махно, сдвигая брови.
Отец Никифор отвёл глаза. Тёплый майский ветерок играл листьями берёзы за окном и чубами трёх висящих на ней казаков.
— Отпущаю, чего уж…
— Ну и ладно. Хлопцы, батюшку обратно доставить!
«Ну и сволочь, — думал отец Никифор, залезая в телегу. — Кадилом бы тебя по ебалу!»
К отцу Никифору батька Махно всегда приходил с большой трёхлитровой бутылью самогона. Бывало, разгорячившись, заводил батька Махно разговор о своих хлопцах и конях, о России да о своей роли в мировой революции.
— Говно, — отвечал, захмелев, отец Никифор, — твои хлопцы, и кони твои — говно. И Россия — говно, и революция твоя, да и сам ты — говно.
Читать дальше