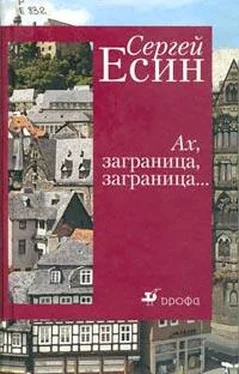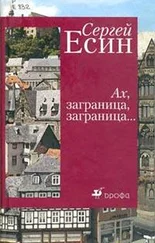Безо всякого внешнего удивления я посмотрел в глаза этой удивительной женщины: да, это была Серафима. Когда люди встречаются глазами – это не означает, что кто-то из них вспоминает очертание бровей и век другого: это в мозгу, в сознании встречаются две воли и распознают друг друга.
«Немая сцена» – так бы написал в моем случае Гоголь. В «Ревизоре» он такую сцену вырисовал до деталей. Но он был гений, а гений может со своими гениальными длиннотами пренебречь вниманием публики. Мои амбиции скромнее – только точность. Современная живопись становится смешной, когда она подъемный кран пишет приёмами, которыми старый мастер живописал безделушки на туалетном столике красавицы. Наше сознание, как тесный музейный запасник, заставлено телевизионными образами. Серафиму на коляске в дверях я обрисовал, а остальное – головы, повернутые в её сторону. Но немая сцена, как хорошо знал Серафима и знал я, не могла тянуться вечно: её эффект – неожиданность и краткость, а дальше – или закрывать занавес, или резко переходить к другой сцене. Практически мы с Серафимой были друг против друга на концах длинной взлетной полосы (головы по краям не в счет), значит, по законам театра, кто-то из нас должен был закончить эту сцену и перейти к новой.
Мастерство, как известно, не теряется и с возрастом. Раздался низкий, утробный, прокуренный, драгоценный, как старое вино, голос Серафимы:
– Простите, друзья, я опоздала к началу. К счастью, в университете объявление о лекции снабжено маленьким плакатиком, что вы переехали сюда. Здесь очень мило.
Теперь, когда ситуация, как на картине Репина «Не ждали» отчасти разрядилась, нужно было и мне, перед тем как продолжить лекцию, что-то сказать. Люди моего склада в быту не очень находчивы.
– Это мой старый друг, Серафима Григорьевна…
– Германовна, – поправила меня Серафима. Я начал судорожно соображать, и некоторые догадки, как звездочки, замелькали в сознании. Как выяснилось позже, под ними были основания. Но надо было продолжать:
– В моей стране Серафима… Германовна была очень известной актрисой.
Одно из двух просвещенных чад ученого химика (а интеллигентному юноше из еврейской семьи положено всё знать) вдруг выплеснуло восторг:
– Я вас видел в кино!
Папа-химик и мама, жена химика, подтвердили:
– И мы!
Барбара прильнула к уху мэра и что-то горячо ему зашептала. Мэр понимающе закивал. А кто не любит важнейшее из искусств!
Кто её в кино у нас на родине только не видел! К этому времени я повзрослел, снова поступил в университет, и у меня начался роман с Саломеей. А потом она внезапно уехала из Москвы, вышла внезапно замуж, кажется, за какого-то партийного босса в одной из южных провинциальных столиц, может быть, даже в Ташкенте. В кино она уже довольно много снималась в кино и до и после Кушки. Но теперь я следил за ней по экрану. Боже мой, последний раз я видел её всего лет пятнадцать назад! Да, да, вспомнил!
Ничего так не бывает нелепо, как воспоминание о молодой любви старых людей. Как же при утреннем разговоре я забыл об этой встрече! Она дает мне реванш! Поэтому – эта коляска стоимостью в целый «мерседес», жемчуг на шее, такой скромный, такой с виду вульгарно крупный, что кажется искусственным, а наверняка жемчужинки прежде красовались на какой-нибудь королевской (может, угольной или нефтяной) шейке, и этот холуй сзади, с пластроном, в бабочке и с оттопыривающей левый бок явно не пустой кобурой. Да, это реванш! Зачем? Сдаюсь!
Я продолжал читать лекцию по накатанному пути, пытаясь вернуть себе состояние полета. Серафима слушала с непередаваемым светским любопытством, будто леди Уиндермир – доклад дворецкого. Но попутно, каким-то параллельным сознанием, я реставрировал давний эпизод. Какой же всё-таки я сукин сын! Мстительный самоуверенный мальчик решил похвастаться…
Это был конец июля, оперный театр уходил в отпуск. Саломея пела чуть ли не последний в сезоне спектакль, а через неделю мы вдвоем улетали в Стокгольм, где она должна была петь Вагнера. Я ужё защитил докторскую диссертацию, и только что получил звание профессора. Всё вокруг было кругло, жизнь улыбалась. Ничто не предвещало нездоровья Саломеи, и у нас не было собаки. В Москве никто еще не ставил стальных дверей в квартирах, а машины, хотя изредка их и угоняли, не стояли на противоугонной сигнализации. Я никогда не ездил на «Волге». Мы не Ростропович с Вишневской – у нас с Саломеей были веселенькие «Жигули» красного цвета и пятой модели. Не очень дорого, но по тем временам прилично. А как свободно было на московских улицах! Из дома до театра мы долетали за тридцать минут. Лишь иногда перед арбатским туннелем, возле здания министерства обороны, приходилось ждать, потому что по Кутузовскому с Рублевки или из Кремля ехали правительственные машины с эскортом. Но не так часто это случалось, и задержка нами почти планировалась. Ездят и ездят, можем и подождать.
Читать дальше