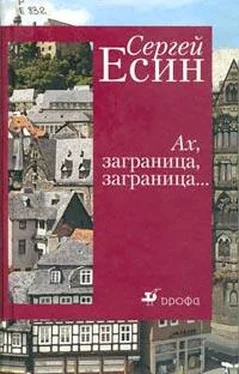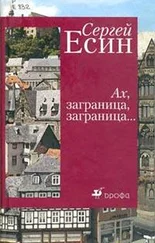Крестьянский сын Ломоносов, еще совсем недавно нищенствовавший и перебивавшийся в Москве, в Славяно-греко-латинской академии, с хлеба на квас, вдруг здесь, в Марбурге, наделал долгов, которые нижайше просил оплатить императорскую Академию. Ах, эти нерасчетливые русские, ах эта вечная трудность молодого существования! Опять напряжём сознание, и так называемым «внутренним взором» представим себе эту табличку, счет из письма в Санкт-Петербург. Тем более, что эта табличка хорошо ляжет на курс мировых валют, уютно устроившийся в зале почтамта при входе.
Аптекарю Михоэлису – 61 рубль
Учителю французского языка Раме – 22
Башмачнику – 15
Книготорговцу Миллеру – 10
Портному – 10
Учителю фехтования – 8
Учителю танцев – 5
Правда, в этом счете были еще и другие фамилии, по всей вероятности, ростовщики. О какой русской расчетливости здесь может идти речь! Но что самое интересное: проклятый царский режим все эти долги оплатил.
Экран «внутреннего взора» погас.
Где здесь можно купить телефонную карту? Мобильная сотовая связь – лишь для неотложных сведений; чтобы немножко повольнее поговорить, приходится пользоваться обычной междугородней. Перед красной на полу чертой никого не было. Вполне современный просторный операционный зал, стекло и пластик, электроника, светятся экраны, мигают лампы, с тихим звоном закрываются денежные ящики под кассовыми аппаратами. Милая девчушка, протянув телефонную карту, даже посоветовала, из какой кабины удобнее будет позвонить.
Голос Саломеи был хриплым и будто бы заспанным:
– Подожди, я выключу магнитофон.
– Чем ты занимаешься?
– Достала кассету Мирелы Френни в партии Чио-Чио-Сан, слушаю и плачу. Какое это божественное искусство! А еще читаю Гроссмана. В твоей комнате нашла журнал «Октябрь» за восемьдесят пятый год и перечитываю «Все течет». Там, кстати, есть одна фраза по твоей теме. Если хочешь, я найду быстро, страница у меня заложена.
Я подумал, как хорошо, что мы в противовес времени сохранили библиотеку и не выбросили толстые журналы, которые собирали всю жизнь. Избавились только от «Огонька». Я всё это перечитываю редко, а вот Саломея часто ворошит комплекты и выуживает что-нибудь интересное, о чем я порой и забываю. Когда у нас, на её или мой день рождения, бывают гости, я иногда признаюсь: моя жена, которая целый день сидит в доме одна с собакой и телевизором, знает литературу лучше, чем я.
– Ну вот, я нашла.
Это значит, она увидела обложку журнала в груде газет и книг у постели. В трубке послышались милые домашние шорохи. Я ясной картинкой представил, как Саломея роется в бумажном развале. В этом мы с ней похожи. Возле моей кровати, на полу, тоже лежат книги вперемешку с разноцветными журналами. Саломее тяжело нагибаться, и я отчетливо вижу, как на совсем худенькой спине через нежный китайский шелковый халатик проступают острые позвонки.
Опять слышу ее голос:
– Сейчас беру очки и читаю.
Я вижу, как возле подушки, где лежат два-три тюбика крема, облатки от лекарств, флакончик глазных капель – всё под рукой, – она находит футляр от очков и, щёлкнув застежкой, достает очки для чтения, с толстыми, не всегда чистыми стеклами, и, одной рукой по-прежнему прижимая телефонную трубку к уху, другой надевает очки. При этом – я это видел тысячу раз – легкий шелк спадает и обнажается тонкая, почти детская рука с пергаментно-сухой кожей. На этой же руке два огромных, каждый с детский кулак, узла вен: это «входные ворота», «фистула» – именно сюда через день вкалываются хирургические иглы: одна гидравлическая система соединяется с другой.
– Слушай. – Я опять «балдею», как говорит сейчас молодежь, от низкого, полного таинственной хрипотцы и мистических шорохов, голоса Саломеи, и всегда, в тех случаях, когда говорю с нею издалека, вспоминаю наше стояние в холодном коридоре в Рыбинске. «Открылася душа, как цветок на заре…»
Её голос:
– «Вспомнилось ему, что на митинге, созванном в связи с процессами тридцать седьмого года, он голосовал за смертную казнь для Рыкова, Бухарина. Семнадцать лет он не вспоминал об этих митингах и вдруг вспомнил о них. Странным, безумным казалось в то время, что профессор горного института, фамилию которого он забыл, и поэт Пастернак отказались голосовать за смертную казнь Бухарину. Ведь сами элодеи признались на процессе. Ведь их публично допрашивал образованный, университетский человек Андрей Януарьевич Вышинский».
Читать дальше