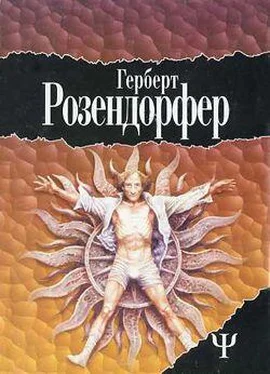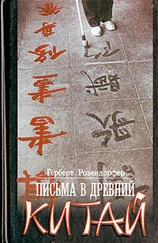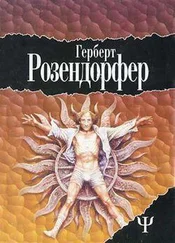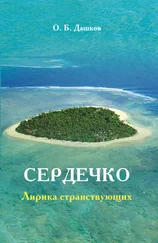Пожалуй, осел, подумал Кессель, сон был скорее про осла.
«Осел: постоянство чувств: вознаграждение».
Несмотря на очаровательную простоту, это утверждение любимой книги также несло на себе некий налет мистики. Что это означало – что будет вознаграждено постоянство чувств или же что это постоянство чувств и есть вознаграждение и не следует ждать иного?
Во всяком случае, пока можно не извиняться, решил Кессель, захлопывая сонник и кладя его обратно в сумку. Он надел пальто, натянул кепку и направился к выходу, потому что поезд уже въезжал под своды венского Западного вокзала. При выходе из вагона клетчатая дама ухитрилась дважды наступить ему на ногу, каждый раз оборачиваясь и обольстительно (как ей казалось) улыбаясь ему, Кесселю. В третий раз, подумал Кессель, я дам ей хорошего пинка.
Барон фон Гюльденберг и Луитпольд ждали его на перроне. Курцману плохо, сообщили они Кесселю. Бедняга лежит с температурой. Судя по всему, у него грипп. Они оставили его в номере отеля.
– Заходите, заходите. Вы меня извините, но я пойду опять лягу, – сказал доктор Якоби, – Болезнь, знаете ли. это всего лишь состояние души. На самом деле нет никаких болезней.
Через несколько дней после окончания агентурных курсов, когда Кессель снова работал в своем тихом отделении на Гертнерплатц, он посетил доктора Якоби – это был тот самый старичок, который так коварно разыграл толстяка из Майнца в байрейтском театре и которого они с Корнелией потом подвезли до Мюнхена. Это он предложил, чтобы они поехали не по автобану, прямиком, а через Донндорф и Эккерсдорф, чтобы заехать в «Замок Фантази», а оттуда через Холльфельд и Визенталь в Бамберг.
– Я люблю Визенталь, – говорил доктор Якоби, – потому что только там еще можно увидеть Германию – ту, за которую не стыдно, наш истинный родной край. Конечно, мы сами виноваты, а больше всех, наверное, этот горлодер из Байрейта, что слово «Германия» во всем мире стало чуть не ругательным. Но еще можно, хотя и редко, увидеть настоящую Германию – чуть не сказал: «добрую старую Германию», простую, скромную… Ту, которой нас шаг за шагом лишали все эти учителя физкультуры, и Бисмарк, и этот Вилли-органчик…
– Кто? – переспросил Кессель.
– Его Императорское Величество кайзер Вильгельм II. Вы не знали, что у него вместо головы был органчик? Протез, одним словом! Почитайте мемуары Ильземана: он ядовит, но это воистину достойное чтение.
Визенталь – это, так сказать, усредненный германский ландшафт, его обобщенный образ: не увенчанная виноградниками долина Рейна и не сумрачное балтийское побережье, не сверкающие снегом баварские Альпы, а подлинная, ничем не искаженная Германия – просторные луга, изредка перемежаемые зелеными холмами, спускающиеся к реке песчаные обрывы, частый лес да кое-где то мост, то мельница, то хутор. «Именно здесь, – сказал доктор Якоби, – и рождаются народные песни. Сам я не люблю народных песен, – продолжал он, – потому что сейчас их у нас чаще всего распевают по пьяни, но никогда нельзя забывать, какую важную роль они играют в музыке».
Что поражало в этой мирной долине, если она вообще могла чем-то поразить, так это обилие зеленого цвета, разнообразие его оттенков: от светлого, чуть желтоватого, до сине– или даже черно-зеленого, зелень матовая и яркая, увядающая и свежая – словом, вся сотня тысяч оттенков, расположенных между желтым и синим, составляющих чистую и богатую палитру жизни.
– Роберт Шуман, – сказал доктор Якоби, – был такой композитор, 1810–1856…
– Я знаю, – ответил Кессель.
– Так вот, Роберт Шуман немыслим без народной песни, хотя в его творчестве главное не это. Теоретики невысоко ценят Шумана, и я всегда думал: почему? Во-первых, Роберт Шуман писал для людей со слухом, для тех, у кого действительно музыкальная душа. Самое главное у Шумана – не голоса, а подголоски. А у музыковедов редко бывает хороший слух. Такие есть, конечно, но их меньшинство. И именно Шуман сохранил для нас Шуберта. Когда Шуберт умер, он кинулся в Вену и спасал там все, что можно было спасти – переписывал, исполнял, печатал, – потому что у Шуберта все просто валялось как попало и покрывалось пылью. Нет, вы только представьте: гениальная симфония до мажор пылилась у него на комоде в единственном экземпляре, чуть ли не черновом, и никто никогда ее не видел и не слышал! А если бы что-нибудь случилось – пожар, например, или… Нет, я не могу себе этого представить. Это было бы слишком страшно.
Читать дальше