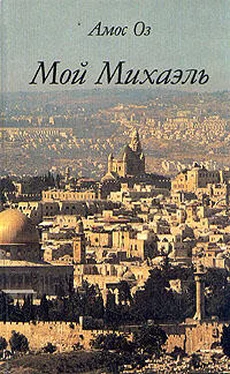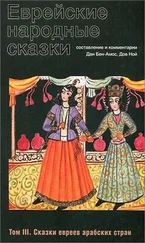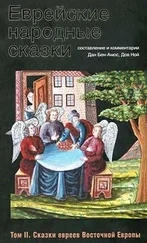Я родилась в Кирьят Шмуэль на границе с кварталом Катамон. В дни праздника Суккот в тридцатом году родилась я. Иногда я испытываю странное чувство, будто пустыня разделяет родительский дом и дом моего мужа. Я никогда не хожу той улицей, на которой родилась. Однажды субботним утром гуляли мы, Михаэль, Яир и я, в самом конце квартала Тальбие. Я наотрез отказалась идти дальше. Как капризная девчонка, топала я ногами «Нет! Нет!» Муж и сын мой смеялись надо мной, но уступили.
В Меа Шеарим, в Бейт Исраэль, в Сангедрии, в Керем Авраам, в Ахва, в Зихрон Моше, в Нахалат Шива живут ультрарелигиозные — ортодоксальные евреи. Ашкеназы носят шапки, отороченные мехом, сефарды — полосатые накидки. Старухи застыли на низеньких скамеечках, будто не маленький город, а огромная страна простирается перед ними, и назначено им навострить соколиный глаз, чтобы денно и нощно окидывать взглядом далекие горизонты.
Бесконечен Иерусалим. Тальпиот, забытый южный континент, притаился под вечно перешептывающимися кронами сосен. Голубоватый пар поднимается из Иудейской пустыни, граничащей с Тальпиотом на востоке. Пар легко коснулся маленьких домиков, цветочных грядок, над которыми нависает листва деревьев. Бейт-а-Керем, одинокое селение, затерявшееся в степных просторах, промытых ветрами, и поля, усеянные скальными глыбами, взяли его в кольцо. Байт Ваган — это горный замок, стоящий на отшибе. Там звуки скрипки раздаются из-за жалюзи, что всегда опущены днем. А ночью с юга доносится вой шакалов.
Напряженная тишина разлилась после захода солнца по Рехавии, по улице Саадии Гаона. В освещенном окне виден седой ученый, склонившийся над письменным столом. Пальцы его летают по клавишам пишущей машинки с латинским шрифтом. Трудно представить, что в конце этой же самой улицы прилепился квартал Шаарей Хесед, и там по ночам босоногие женщины расхаживают среди цветного белья, развевающегося на ветру, а хитрющие коты мечутся из подворотни в подворотню. Возможно ли, что человек, стучащий по клавишам своей пишущей машинки, не чувствует всего этого? Словно у подножья его балкона не раскинулась на западе Долина Креста, и древняя роща, взбирающаяся по склону, не касается крайних домов Рехавии, намереваясь окружить, захлестнуть весь квартал плащом густой зелени. Маленькие костерки вспыхивают в долине, и приглушенные, протяжные песни, поднимаясь из леса, долетают до оконных стекол. С наступлением темноты белозубые сорванцы стекаются со всех концов города в Рехавию, чтобы швырять маленькие острые камешки в фонари, что освещают аллеи. Улицы все еще тихи: Радак, Рамбам, Рамбан, Альхаризи, Абарбанель, Ибн Эзра, Ибн Габироль, Саадия Гаон. Но тихи будут и палубы британского эсминца «Дракон», даже тогда, когда потаенный бунт взметнется в его трюмах.
Пространства иерусалимских улиц распахнулись навстречу сумеркам, горы бросают тень, будто дожидаются темноты, чтобы пасть на замкнутый город.
В Тель Арза, на севере Иерусалима, живет пожилая женщина, пианистка. Она упражняется без перерыва, без устали. Она готовит программу из произведений Шуберта и Шопена. Неби Самуэль, одинокая башня, стоит на вершине горы на севере, стоит неподвижно за пограничной линией, днем и ночью устремив взгляд на старую, вдохновенную пианистку, что, расправив плечи, сидит у рояля, спиной к открытому окну. По ночам посмеивается башня, посмеивается, худая и высокая, посмеивается, будто шепчет про себя: «Шопен и Шуберт».
В один из августовских дней мы с Михаэлем отправились в дальнюю прогулку. Яир остался в доме моей лучшей подруги Хадассы, на улице Бецалель. Лето стояло в Иерусалиме. На улицах города — иной свет. Я говорю о времени между половиной шестого и половиной седьмого, о последнем свете уходящего дня. Была ласкающая прохлада. В переулке При Хадаш есть один двор, вымощенный каменными плитами, отделенный от улицы развалившимся забором. Среди каменных плит возвышается старое дерево. Я не знаю его названия. Зимой я проходила здесь одна и мне показалось, что дерево умерло. А теперь его ствол выстрелил побегами в бурном порыве и листья словно покрылись лаком.
Из переулка При Хадаш повернули мы налево, на улицу Иосефа Бен-Матафия. Огромный, темный человек в пальто и серой кепке, пялил на меня глаза из-за освещенной витрины рыбной лавки. То ли я сошла с ума, ли мой истинный муж; устремил на меня гневный, осуждающий взгляд из-за витрины рыбной лавки, где стоял он в пальто и в серой кепке.
Читать дальше