Фонари на улице горели до утра. Моя кровать перпендикулярно примыкала к кровати писательской пары. И если слегка повернуть голову вправо, то можно было видеть соседей по комнате.
Я притворялся спящим и ждал. Ждал долго. Ничего не происходило.
Они только и делали, что разговаривали. Говорил все время писатель:
"Потерпи… Скоро у нас будет все… Деньги, почет, слава, квартира…".
И так каждую ночь: "Деньги, почет, слава, квартира".
По утрам я приходил в столовую. Джон поднимался с постели: "Ну что там?".
Нараспев я отвечал:
– Все то же самое. Деньги, почет, слава, квартира.
Из-за нашего постояльца писатели из аулов (а других тогда почти и не было) представали предо мной одинаково похожими на мамин талант.
И если на глаза попадалась книжка казахского автора, то казалось, что едва я открою обложку, меня тотчас же настигнет очередной талант и будет неотвратимо бить по мозгам:
"Деньги, почет, слава, квартира!".
В начале 62-го мама поехала за Ситкой Чарли. Вернулся брат из
Ленинграда по прежнему разговорчивым. Может так бывает после длительного стационара? Понял, что лечение прошло в пустую, как только услышал от Ситки ключевое слово "Сталинград".
– Мама, что сказали врачи? – спросил я. – Ситка вылечился?
– Вылечился.
– Тогда почему он снова болтает про Сталинград?
– Пройдет.
Не прошло. Сталинград продолжал пылать огненными руинами внутри
Ситки Чарли. Брату не суждено было пробиться из осажденного города к спешащей на помощь группировке Манштейна. И это еще не все.
Прибавилась новая напасть.
Дикий Запад.
Ситка раскачивался и, глядя перед собой, разделяя слова по слогам, напевал:
– На Аме-ри-кан-ский Ди-кий За-пад, вэй!
Его захватили страхи и про Сарыджаз с Канайкой. Сарыджаз и
Канайка психолечебницы для хроников под Кзыл-Ордой. Ими, говорил
Ситка, врачи запугивают непослушных больных.
В отместку за Дикий Запад Джон и я дразнили Ситку своей песней:
Сарыджаз – Канайка!
Кызыл-Орда!
Там банда негров
Лупцует льва!
Джон обалденно бацал твист. Ситка улыбался: "Ангел ада". Доктор просил: "Сбацай нормальную вещь".
Джон выходил на середину столовой и требовательно щелкал пальцами: "Дайте румбу".
Румбу танцевал Джон так же, как и играл в футбол. В его движениях было много неправильного, обычно так румбу не танцуют. Смотреть можно, но пляске отчаянно не хватало огня и было в ней что-то такое, чего мы не понимали и от чего всем нам почему-то становилось неловко.
Грозился Ситка отвезти нас в Америку.
– Скоро, очень скоро мы все поедем в Америку.
Ситка обещал вывезти в Америку не только родню и близких Приходил за мной Лампас и брат кричал ему из кухни: "Алмас, поедешь со мной в
Америку?".
Я загораживал Лампаса от Ситки и уговаривал: "Завязывай".
…После Ленинграда с диспансера на Пролетарской Ситку перевели на Сейфуллина, в настоящую психбольницу.
Стояла середина лета. Раздетые по пояс больные бродили кругами, лежали на скамейках, в траве и на клумбе. У проходной косматый старик играл на мандолине. Медбратья, медсестры сидели на вынесенных стульях и лениво посматривали на разгуливавших больных.
Ситка увидел родителей и меня. Он бежал к нам, блаженно оглашая двор о моем приходе:
– Братишка пришел!
Я давно уже не тот, что приходил к Ситке в апреле 1958 на
Пролетарскую. Ситка подбежал и я умоляюще прошептал: " Завязывай орать". В этот момент мне казалось, будто все – санитары, сестры, нянечки – смотрят на меня. Смотрят и чувствуют, что творится со мной. Еще мне казалось, что они не только чувствуют, а насквозь видят, что ощущает человек, чей брат нисколечки не стыдится пребывания в психбольнице.
Любопытство санитаров усугубляли больные. Они подходили к Ситке и просили: "Дай что-нибудь покушать". "Они не голодные, – думал я, – болезнь заставляет их попрошайничать". О том, что без нас этим может заниматься и наш Ситка. я не подумал.
Ситка жаловался на порядки в больнице: "По утрам спать не дают, замучили с уборкой палат…". Я просил Ситку: "Потише. Услышат".
Ситка Чарли, не снижая громкости, продолжал ябедничать.
Когда кончится кормежка? Хотелось побыстрее очутиться за воротами больницы.
Перевод на Сейфуллина реально означал утрату последней надежды.
Вслух об этом в доме никто не говорил, но и без того ощущалось, что родные смирились с неизлечимостью.
В свою очередь сам Ситка не собирался мириться с предрешенностью битвы за Сталинград. По его словам, из котла можно было прорваться, только избавившись от невидимого стального намордника. Намордник, по его словам, полуопоясывал подбородок и скулы, заканчиваясь под ушами. Иногда он просил кого-нибудь из нас: "Пощупай под правым ухом. Чувствуешь намордник?".
Читать дальше


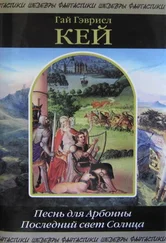

![Полина Люро - Последний поцелуй солнца [СИ]](/books/385019/polina-lyuro-poslednij-poceluj-solnca-si-thumb.webp)





