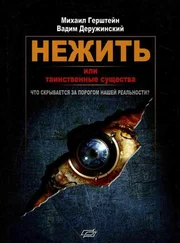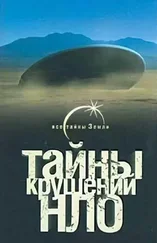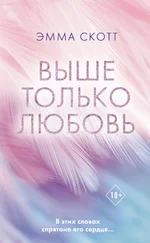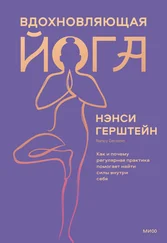Зал, оформленный самим Суетиным, особенно выделялся своей структурой. Это был последний зал, куда, по традиции, включались обязательные казенные темы о значении русского писателя для мировой литературы и о влиянии его творчества на советских поэтов и прозаиков. Я эти сюжеты терпеть не могла.
Поэтому плохо помню подробности разработок в этом зале. Помню только, что Суетин создал блестящий в архитектурном отношении финал всей выставки. Это был подлинный апофеоз.
Первые два зала были оформлены по тому же принципу наложенных на стену рам, но это не бросалось в глаза. Там было царство цвета.
Зал первый – детство в Тарханах, Москва, юнкерское училище в
Петербурге – оформлял К И. Рождественский. Этот зал производил впечатление залитого солнцем. Стены переливались нежными акварельными красками. Я говорю об общем впечатлении, а не о реальном материале. Среди экспонатов, конечно, была не одна акварель, там были и масло, и графика, и карандашные рисунки, но общий тон зала был светлый, вернее, радужный в буквальном, а не переносном смысле этого слова.
Мне казалось, что Рождественский был особенным любителем дневного света. Я случайно слышала, как он говорил по телефону с соседкой по квартире, уточняя время чьего-то прихода к ним. Но ни слово “время”, ни “который час” ни разу не прозвучало в его речи. Он только выяснял, где тогда было “солнышко”.
Художники думают глазами. Цвет и линии говорят им раньше, чем логическая мысль. Я в этом убедилась, когда в первые дни войны делала с Рождественским передвижную выставку на тему
“Отечественная война 1812 года”. Изобразительные материалы мы выбирали из богатого фонда лубков Литературного музея. Я выбрала лист, изображающий Наполеона на берегу Немана, то есть перед началом наступления на Россию, “Нет, – возразил Константин
Иванович, – возьмем этот”. Тут было изображено то же самое, но на берегу стояло одинокое дерево. Я не обратила внимания на эту деталь. Между тем все ветви дерева были обращены в сторону Наполеона. “Видите? Дует противный ветер. Тут уж” есть все”… Отступление из Москвы, бегство из
России… – словом, неудача, поражение.
А Эндер по-своему читал “Героя нашего времени”. Когда он решил украсить наш стенд восточным ковром, он исходил не из банального представления об убранстве комнаты кавказского офицера – над диваном персидский ковер, на нем красуются кинжал, пистолеты и прочее искусно отделанное оружие. Он не повторил этот стандарт, а шел от свежего впечатления, перечитывая роман. Борис
Владимирович так защищал свое намерение: “Ведь Печорин умер в
Персии, а на Кавказе покупал в лавке персидский ковер, вы помните?” (Я ли не помнила!) И вот два небольших персидских ковра служили предметом декора, а не иллюстрацией к фабуле
“Княжны Мери”. Они были помещены наверху горизонтально и симметрично, дополнительно закрепляя форму всего отгороженного деревянными рамами пространства. Центром этого стенда служил портрет Лермонтова, окруженный портретами участников “кружка шестнадцати”. Качество портретов было невысоким, но Эндер и тут нашел выход. Он тонко тонировал паспарту, выбирая оттенки цвета для картона, на который наклеивались рисунки и гравюры. В сочетании с пестрыми изображениями маскарада в Зимнем дворце, да еще с акварельными портретами “графини Эмилии” и С. М.
Виельгорской, олицетворявшими излюбленный Лермонтовым тип мягкой, женственной красоты, весь этот стенд воспринимался как симфония красок. Но общий колорит оставлял впечатление не яркого/,/ а мерцающего света. Это соответствовало моему восприятию гениальной прозы
Лермонтова. Ни то, ни другое не интересовало постоянных сотрудниц Литературного музея, и одна из самых влиятельных среди них заметила, поджав губы: “Слишком красиво”.
Если бы речь шла о выставке, посвященной Некрасову, или Л.
Толстому, или
Достоевскому, такое замечание могло бы быть оправдано. Резкое падание эстетики быта в пореформенной России известно. Но в лермонтовское время, когда не только он, но и ближайшие его друзья хорошо рисовали, многие были музыкально одарены, когда сам Лермонтов в некоторых своих произведениях уделял особое внимание архитектуре и интерьеру, наконец, если вспомнить такие роскошные его баллады, как “Три пальмы", “Дары Терека”, “Свидание” и
“Спор”, упрек в излишней красоте покажется совсем неуместным. Впрочем, мнение музейных “кадров” уже не имело влияния на судьбу юбилейной выставки. Гораздо хуже обстояло дело, когда еще до завершения работы нас посещали высокие руководители. Так, когда пришел Фадеев и увидел, что для стенда “Мцыри” я выбрала ведущим мотивом такой:
Читать дальше