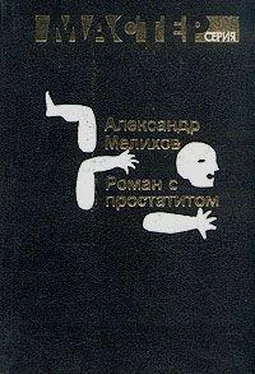Они посыпались с неба – фашистский десант. Свирепый лай команд сам собой – послевоенное детство – складывается в сакральные:
“Хальт!”, “Цурюк!”, “Хенде хох!”. Владелец мясорубок, обратившийся в карлика, полуприсевшего в лыжном шагу (ботинки вытянулись, словно детские лыжи), бледно лепечет: почему я?.. мы же тут все… “Торбу!!!” – оглушает весь в невиданных эмблемах (иностранец!) страшный усач – второе пришествие маршала
Пилсудского; клацают затворы, ощериваются наручники. “Может, там и есть что, я ж не продавал, я для себя… – и в предсмертной заячьей отчаянности: – Я же знаю, кто вас навел!..” Из сумки зловеще, как фиксы бандита, поблескивают латунные колпачки запретной водки. “За товаром приглядите!..” – и сельва сомкнулась.
“Вот видишь, нас же не тронули”, – с бесконечной нежностью и состраданием повторяет моя защитница, и я действительно вижу под лицом, рожей, ряшкой мира смертный оскал его скелета – Простоты.
Упоенный отрешенностью старичок свищет над нами исполинской розгой удилища, накидывая по злотому за каждую золотую рыбку.
Моя сошедшая с небес покровительница с необыкновенным изяществом припадает на колено, подавая панам то рамку (“От графа
Потоцкого”, – рекомендую я мертвыми губами), то шампунь, то ночную “кошулю”, которую пани без церемоний прикладывают прямо к пальто. (“Цикаво”, “лепше”, – галантно вворачивает небожительница.) Я бы все разом спихнул за любую соломинку, протянутую из прежнего мира, где власть силы и ясность мозгов запудрены церемониями законов и приличий, но моя бесстрашная повелительница не сдается.
Ее ювелирные ручки гусино-красны от холода, она, не замечая, беспрерывно шмыгает безупречным носиком. И все равно – свету провалиться, а Ему чтоб каждый час хоть по чайной ложке… Моя маленькая няня сует мне трепаные тысчёнцы: “Не экономь. И не пересчитывай в рубли. А то кусок в горло не полезет. И наоборот”. Меня уже не коробит подобный юмор, столь несвойственный прежней Соне. И первые иностранные деньги в их родной стихии – зачем только на них лепят вполуха слышанных композиторов и утонченных, судя по облику, поэтов – уж лучше бы простого Ленина… Что, за этот цементный желобок в крольчатнике моя зарплата за… Стоп! Не пересчитывать.
Сиротливые костерчики сверлышек под зевлами мясорубок обходим взглядом, будто несжатую полосу. Я понял: собственность – золотое ядро, прикованное к ноге утопающего. Безнадежнее всего я ненавидел неотвязную стопку голубых ведер. Внезапно какая-то добрая волшебница возжелала сразу “тши”. Но подлые ведра склеились. Обхватив их всеми четырьмя лапами, я рычал, как медведь, пытающийся свернуть шею растревоженному улью, но полированная пластмасса скользила в джинсовых объятиях. Со сдавленным стоном я вонзил нож в слипшуюся щель. Волшебница попятилась и растаяла в наползающих из-под прилавков сумерках.
– Что ж вы забздели за соседа заступиться? – дружески укорил нас бодро притрусивший владелец режущих средств для железа и мяса.
– Лишний шум тут ни к чему, – сдержанно ответила богиня.
“Все хоккей”: его заставили только вылить семь бутылок водки, пять коньячков и взыскали пару-другую триллионов – разве не
“хоккей”?
Надсаживающиеся светом фонари бессильны перед океаном тьмы. По железному тротуарному ледку скольжу, как некованая лошадь, но подкованная бурситом промерзлая пятка отдается звоном в ушах.
Щепотка света, четкое расписание под неразбитым стеклом, сияющий трамвай, секунда в секунду вынырнувший из небытия, – шаткие досочки человеческого порядка над бездонным Хаосом. Моя фиолетовая, пошмыгивающая носиком богиня умело перетасовывает и прикручивает сумки к тележке – так придется платить только за одно место.
Предначертанные свыше трамвайные зигзаги, черные квадраты зданий, вперивших мимо нас квадраты горящие, квадраты потухшие, квадраты затянутые разноцветными бельмами, – миры, мирки, мирочки, чем тесней, тем уютней, то есть подвластней. Внезапно под нами и над нами загремел двуслойный мост над струистой черной бездной. Ой ты, Висла голубая, простукало во мне хрустальным пальцем – и что-то откликнулось: детство, мать за пианино, недостижимая чужестранная речка… “Старе Място!” – не забыла и о моей душе окоченевшая маленькая няня, и я увидел плавящееся в Висле… “Сказка! Сон!” – вырывается из души само собой, ибо уж ей-то известно, что любая явь – это просто “здесь”.
Праздничные тротуары (иллюминация Елисейских полей), промытые океанариумы, в которых прохаживаются, присаживаются, закусывают, болтают нарядные и – вечная иллюзия отверженца – счастливые люди. Но ничтожный прокол – и весь этот убаюкивающий морок свистнет наружу, в безбрежную пустоту ледяной правды.
Читать дальше