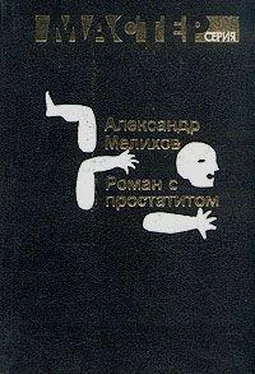“Гардероб”, так и дошел до лаборатории с курткой на руке. Боже, что тут началось!.. “Хорошо, я сейчас отнесу”, – без глубины я очень рассудительный. “Не надо! Садитесь!” – Что-то она мне сейчас вдует в вену? Их и смертью не купишь. Вот они, изотопы, потекли из моей крови в мочу – один график быстро выходит на плато, другой так и влачится по абсциссе.
– Попробуем визуальное наблюдение, – не теряет надежды Мария
Лазаревна.
Меня привязывают к гинекологическому креслу и вносят трубу производства завода “Красный трактор” – я был уверен, что ее собираются надевать сверху.
Но первые планы не могут явить ничего особенно ужасного, тем более что у меня уже имелся застарелый опыт: прежде чем открыть клапан б кипящему чаю с вишневым вареньем, нужно взяться рукой за стену. “И все-таки я до конца не уверена, что операция так уж необходима”, – все жалела предать меня ножу добросердечная Мария
Лазаревна.
Я не особенно боялся страданий – меня переворачивало при мысли, что во мне будут рыться, словно в каком-то устройстве, касаясь предметов, которых, не будь мир создан ради глумления над нами, у человека и быть не могло.
Михайлов – русский витязь в хирургическом колпаке – на снимки едва взглянул: “Надо оперировать”. Но Кацева сказала, что, может быть, еще… “Ну так и идите к Кацевой”. Простите, я вовсе… А если не…? “В любой момент может произойти разрыв, застоявшаяся моча выльется в брюшную полость”. Но может ведь и не…? “Может.
Будет и дальше разъедать паренхиму. Я не уверен, что и сейчас операция спасет почку – может, она сложится вдвое…” И… и что? Но тут его срочно увлек огромный негр с ритуальными лучиками шрамов в уголках рта.
– Нет, жить на этой бомбе я не хочу, – проявила внезапную (а если разобраться, не такую уж внезапную) решимость мама. – Ты часто бываешь в разъездах – что, если?..
Меня больше всего ужасает, сипел я в трубку, что я попадаю в распоряжение чужих людей, для которых я только предмет, стук тапочек, которые я там брошу на пол в гардеробе – вот что меня ужасает, – как комья земли о крышку. “Ты неправильно понимаешь,
– в ее голосе снова пело бесконечное терпение и забота, – ты должен себе говорить, что идешь к людям, которые о тебе позаботятся. Не помню, я тебе рассказывала? – врач спросил, как я себя чувствую, а у меня слезы, ты просто объелся заботой. У нас был кот, так он сам каждое утро подходил к маме, чтобы она смазала ему болячку, – он понимал, что это для его же пользы”. -
“Сознательный кот. Буду брать с него пример”.
Я вполне мог заниматься делами, но развлечения, удовольствия ввергали меня в такую мрачность… Удовольствия не только не возмещают страданий, а, наоборот, тычут тебя в них носом. Да еще норовят всколыхнуть твою глубину, придавленную первыми планами, и она начинает грозить тебе смутными образами, куда более могущественными и всеохватными, чем и без того невеселая явь.
Чувствуя, что подобное может быть оттеснено лишь подобным же, я старался поднять со дна своего воображения какие-нибудь столь же огромные, но восхитительные образы, однако запас их у меня давно выветрился, а убедительно творить мифы в одиночку я оказался не в силах – обнаружилось, что работоспособным, к стыду моему, остался лишь детский фонд: я вообразил, что отправляюсь на фронт, и последний день на воле провел с какой-то даже задиристой веселостью.
Правда, по утрам, когда водяные часы будили меня на железной койке с заводной рукояткой, чтобы регулировать изголовье, и я видел больничную тумбочку с эмалированной кружкой, слышал храп, стоны, – могучий мрак разом поднимался из глубины, и нужно было срочно гасить его первыми планами: ледяная вода по пояс, стремительная зарядка на верхней площадке среди ломаных капельниц и дерматиновых верстаков (от первых же движений начинало бешено колотиться сердце), подтягивания на решетке, запирающей чердак. Потом “процедуры”, завтрак, обход, явление
Михайлова народу, прогулка по кардиологии, травматологии, нейрохирургии – страшные битые алкаши с перебинтованными головами, – интенсивная работа над башенками Вавилонской стены в тихом уголке, затем обед в аду – щи да каша, – и ни минуты свободы для пожирающих фантазий. Сибаритствовать можно, когда в главном нормально.
С “простыми людьми” в палате я поладил преотлично: когда я слагаю с себя ответственность за мировую красоту, человека приятнее меня еще искать и искать. Жилплощадь, штаны, внутренности, борщи, начальство – все это трогательно, когда человек страдает. Я снисходил даже до политических прений: разумеется, исполнить то, что они возглашают, – и миру конец, но это же не со зла. Политика – мир свободы. То есть романтизма. То есть безответственности. В микромире каждый знает, что излишек честности его погубит, – в макромире он требует от вождей какой-то астральной порядочности.
Читать дальше