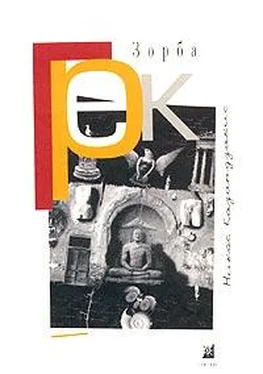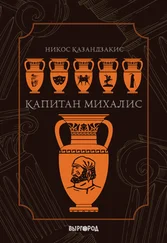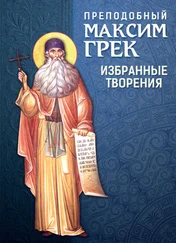Зорба прыснул:
— Забавная вещь — человек! Ты его наполняешь хлебом, вином, рыбой, редисом, а взамен слышны вздохи, смех и мечтательные речи. Настоящая фабрика! В нашей голове (я в это очень верю) есть звуковое кино, где говорят. Внезапно Зорба прыгнул из постели.
— Но зачем попугай? — воскликнул он с беспокойством. — Что бы он значил, этот попугай, который отправился со мной? Эх! Боюсь, что… Он не успел закончить. Вошел рыжий, приземистый гонец, похожий на дьявола, он едва переводил дух.
— Ради Господа Бога! Несчастная дама кричит, чтобы позвали врача! Она умирает, она говорит, что умирает, и ее смерть будет на вашей совести. Мне стало стыдно. Из-за потрясения, в которое нас ввергла вдова, мы начисто забыли нашу старую подружку.
— Ей так плохо, бедняжке, — продолжал, входя в роль, рыжий гонец, — она так кашляет, что трясется вся ее гостиница! Да, да, старина, она кашляет, будто ослица кричит: кха! кха! Вся деревня трясется!
— Хватит смеяться, — крикнул я ему, — замолчи! Я взял лист бумаги и стал писать.
— Сбегай, отнеси письмо врачу и не возвращайся, пока не увидишь своими глазами, что он оседлал кобылицу. Ты понял? Беги! Он схватил письмо, сунул его за пояс и исчез. Зорба уже поднялся. Он торопливо одевался, не произнося ни слова.
— Подожди, я пойду с тобой, — сказал я ему.
— Я очень тороплюсь, — ответил он и ушел.
Чуть позже я тоже направился в деревню. Сад вдовы был пуст и благоухал. Перед садом сидел Мимито, одичавший, съежившийся, наподобие побитого пса. Он исхудал, его провалившиеся глаза горели. Он обернулся и, заметив меня, схватил камень.
— Что ты здесь делаешь, Мимито? — спросил я, скользя печальным взглядом по саду. Я вспомнил теплые, ласковые руки… В воздухе стоял аромат цветов лимона и лаврового масла. В сумерках виделись прекрасные черные, горящие желанием, глаза вдовы, ее ослепительные белые зубы, начищенные веткой ореха.
— Почему ты об этом меня спрашиваешь? — проворчал Мимито. — Иди-ка ты отсюда по своим делам.
— Хочешь сигарету?
— Я больше не курю. Вы все негодяи. Все! Все!
Он замолчал, задыхаясь, казалось, он подыскивает слова, чтобы выразить переполнявшие его чувства.
— Негодяи… мерзавцы… лгуны… убийцы… Наконец, найдя слово, которое искал, он с облегчением захлопал в ладоши.
— Убийцы! Убийцы! Убийцы! — дико кричал он пронзительным голосом и смеялся. Сердце мое сжалось.
— Ты прав, Мимито, ты прав, — шептал я, уходя от него торопливым шагом.
Подходя к деревне, я увидел старого Анагности, согнувшегося над своим посохом, внимательно, с улыбкой наблюдавшего за двумя желтыми бабочками, мелькавшими в весенней траве. Теперь, когда он постарел и его больше не волновали работа в поле, жена, дети, у него было время прогуляться равнодушным взглядом по земле. Увидев мою тень, старик поднял голову.
— Какой ветер занес тебя сюда в такую рань? — спросил он. Но, должно быть, заметив мое обеспокоенное лицо, не дожидаясь ответа, сказал:
— Иди быстрее, сынок, не знаю, застанешь ли ты ее в живых… Эх, несчастная!
Широкая, столько ей послужившая кровать, самая верная подруга мадам Гортензии, стояла в самой середине маленькой комнаты, почти не оставляя свободного места. Над ней, задумавшись, склонялся ее преданный интимный советник в зеленой одежде и желтой шапочке — то бишь попугай с круглыми и злыми глазами. Он пристально смотрел на свою распростертую, стонущую хозяйку, наклоняя свою почти человечью голову немного набок, чтобы лучше слышать.
Нет, это не были вздохи любовной радости, которые он очень хорошо знал, не похоже это ни на нежное воркование голубей, ни на смех от щекотки. Пот, струившийся ледяными капельками по лицу его хозяйки, волосы, как пакля, немытые, нечесаные, прилипшие к вискам, конвульсивные судороги в постели — все это он, попугай, видел впервые и был обеспокоен.
Ему хотелось закричать: Канаваро! Канаваро! Но звуки не шли из его горла. Его несчастная хозяйка постанывала, руки ее, увядшие и обрюзгшие, приподнимали и отпускали простыню, она задыхалась. Без румян, опухшая, она пахла кислым потом и разложением. Из-под кровати торчали ее дырявые, потерявшие форму туфли, и сердце сжималось, глядя на них. Эти туфли удручали больше, чем сама хозяйка.
Зорба, сидя у изголовья больной, смотрел на эти туфли и не мог оторвать от них взгляда. Он сжимал губы, чтобы удержать рыдания. Я подошел, встал позади него, но он меня не заметил.
Несчастная дышала с большим трудом. Зорба снял с крючка шляпку, украшенную матерчатыми розами, чтобы обмахивать ее. Он взмахивал своей большой лапищей очень быстро и неумело, будто разжигая влажный уголь.
Читать дальше