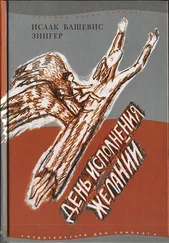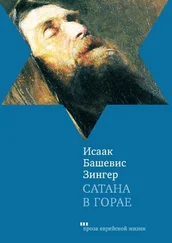Пресса била тревогу. Варшавская торговая палата решила устроить бал, доходы от которого пошли бы на помощь бедным. Добровольные общества собрались провести благотворительный базар. Аристократки, известные актрисы и оперные певицы пообещали, что будут сидеть в киосках и продавать всевозможный товар. Миллионер Валленберг сделал крупное пожертвование, но нуждающихся было слишком много, а тех, кто хотел им помочь, слишком мало. И непонятно было, кому помогать в первую очередь. Во многих деревнях крестьяне уже съели зерно, оставленное на семена, и голодали. Даже зажиточным варшавянам нечем было отапливать жилье, почти весь уголь забирали фабрики.
У евреев положение было еще хуже. Перед синагогой на Гжибовской собирались толпы нищих, но шамесы не пускали их внутрь. Бедняки плакали, ругались и проклинали хасидов, которые объединились с ассимиляторами и отдали Варшаву в руки выкрестам. Между хасидами и миснагедами снова разгорелась старая вражда. Миснагеды поддержали указ, что евреи должны носить европейскую одежду: шляпы, длинные брюки и башмаки на шнурках или застежках. Говорили, что того же хочет Коцк, но были и те, кто предпочел кацапский кафтан, штаны, заправленные в сапоги, шейный платок и русскую каскетку, слегка перекроенную на еврейский лад. К тому же хасиды были недовольны главным раввином Варшавы, миснагедом реб Екеле, но, когда он умер, всем стал заправлять раввинат. Бывало, в общину обращались за помощью люди, у которых дома лежал покойник, но не было денег на похороны. Громче всех кричала женщина с круглым лицом в бородавках, закутанная в шаль. У нее умер муж, детей у них не было, и деверь требовал денег за освобождение от левиратного брака. Хотя община была тут ни при чем, вдова во весь голос проклинала раввинов, хасидов и «немцев», которые разъезжают в каретах.
— Есть Бог на свете, — повторяла она. — Он долго терпит, да больно бьет!
Люциан и Мирьям-Либа остались без жилья. Люциан ночевал у Бобровской. Его сестра Фелиция, жена доктора Завадского, сделала милость, забрав к себе детей, Владзю и Маришу, но приютить их мать отказалась, потому что Мирьям-Либа пила, да Мирьям-Либа и сама не хотела становиться для Фелиции обузой. Только Азриэл не оставил Мирьям-Либу в беде. Он снял для нее мансарду на Лешно, возле площади Керцелак. В мансарде стояла железная печка с длинной трубой. Азриэл по дешевке купил Мирьям-Либе узкую кровать (мебель Люциана распродали на аукционе), кухонный шкафчик и два стула. Постельное белье и кое-какая одежда у Мирьям-Либы остались. Комнатка была тесная, под самым потолком — окошко, напоминавшее маленькую голову на плечах горбуна. Чтобы выглянуть на улицу, нужно было подставлять табурет. У комнаты было только одно достоинство — отдельный вход.
Угля было не купить, и в комнате стоял жуткий холод, как на улице. Морозные узоры все время покрывали все четыре стеклышка в оконной раме. Вода, которую Мирьям-Либа носила в ведре из колонки, стояла замерзшая. Давно некрашенные стены с осыпавшейся штукатуркой заросли плесенью. У Мирьям-Либы осталось несколько одеял, но ночью она все равно не могла согреться. Она натягивала на ноги рукава жакета, как чулки. Воздух был такой холодный, что перехватывало дыхание. Мирьям-Либа закрывала лицо незаконченным вязаньем пани Малевской. Все деньги Мирьям-Либа пропивала, и Азриэл покупал ей еду: хлеб, сыр, селедку, колбасу. Но почти каждый раз, когда Азриэл приносил свежие продукты, он видел, что купленные раньше еще не съедены. Мирьям-Либа едва к ним прикасалась. Она говорила, что Азриэл только мышей разводит. Мирьям-Либа скучала по нему, но, когда он приходил, все время ныла:
— Чего тебе надо? Уйди, дай помереть спокойно!
— Ты должна взять себя в руки.
— Как? Зачем? Мне уже недолго осталось…
Азриэл, в студенческом мундире со стоячим воротником, шагал по тесной комнатушке, спрятав руки в рукава. Он сам был простужен, у него был насморк — болезнь, лекарства от которой пока не придумали. Юзек и Зина каждой зимой болели, Азриэл пытался их лечить, но Шайндл не очень-то ему доверяла и предпочитала звать доктора Гальперна. По вечерам при свете маленькой керосиновой лампы Азриэл сидел у кровати Мирьям-Либы и выслушивал ее претензии. Она жаловалась на судьбу, как Иов.
— Пути природы неисповедимы, — отвечал ей Азриэл.
На Желязной улице была дешевая столовая, где подавали обеды за четыре и шесть грошей. Готовили почти всегда одно и то же: перловку или горох, в тарелку кидали единственную клецку или маленький кусочек мяса. Заправляли еду свиным жиром. Начинали варить ранним утром, и огонь в печи не гас до позднего вечера. За столами сидели носильщики, грузчики, низкооплачиваемые рабочие и те, кто и вовсе потерял работу и уже продал последнюю рубаху. Поевших сразу выгоняли, чтобы освободить место для следующих, но, бывало, посетители в ветхих куртках и дырявых башмаках не хотели уходить. Часто возникали ссоры, и приходилось вызывать полицию. За одним из столов ели интеллигенты, его так и называли — «панский стол». За этим столом часто обедал Люциан: у Бобровской не всегда было время готовить, да он и сам не хотел слишком ее обременять. Приходил бывший помещик пан Хвальский. Его разорило освобождение крестьян, но еще больше — карты. С ним приходила его жена Катажина. Супруги казались полной противоположностью друг другу: пан Хвальский был высок и неимоверно толст, пани Хвальская — мала ростом и худа. На ее морщинистом, как высохшая фига, личике краснел маленький курносый носик. Пани Хвальская жевала и проклинала Петербург, Францию, которая предала Польшу, нуворишей и, больше всего, евреев. Каждый раз она непременно поминала Валленберга. Он якобы христианин, но все равно помогает евреям, водит дружбу с кацапами и строит себе дворцы, когда истинные католики благородного происхождения вынуждены унижаться до посещения благотворительной столовой. Пан Жулковский, молодой помещик с подстриженной бородкой, в старомодном сюртуке, каждый день ставил на стол жестяную миску со своей порцией, добавлял побольше соли и перца, пробовал и, едва проглотив одну ложку, пускался в рассуждения о том, что во всем виноваты евреи и масоны. Это они, евреи и вольные каменщики, хотят уничтожить Польшу. Ведь если Польша будет растоптана, католическая вера лишится последнего оплота. Масоны, протестанты и евреи — одна компания. Дизраэли, Бисмарк, Ротшильды и Валленберг действуют по приказу Досточтимого мастера. Мало кто об этом знает, но царь Александр II — тоже из них, потому-то он и отменил крепостное право, а одному еврею, некоему Гинцбургу, пожаловал баронский титул. Сара Бернар, может, и талантливая актриса, но в то же время она курьер у заговорщиков, с которыми связаны нигилисты, Гарибальди, либералы всех стран и коммунары, которые пытались сжечь Париж. Вот до чего докатилась Польша! Евреи Левенталь и Оргельбрандт — издатели, Унгер — защитник польского искусства!
Читать дальше


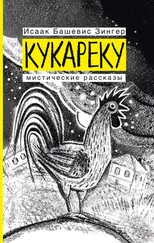

![Исаак Башевис-Зингер - Короткая пятница и другие рассказы[Сборник]](/books/148307/isaak-bashevis-thumb.webp)