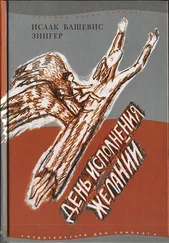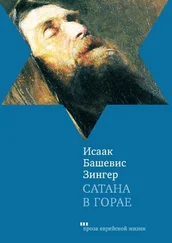Да, ночью Ванда нашла газету. В некрологе было написано, что последние недели Щигальский жил у своей старой приятельницы Эльжбеты Бобровской, вдовы актера Винценты Бобровского, который когда-то блистал на сцене в поставленных Щигальским пьесах. Был там и адрес: улица и номер дома. И вот Ванда отправилась на поиски Люциана…
Когда она вышла из гимназии, было еще светло, но зимний день короток. С утра шел дождь, потом похолодало, и дождь сменился снегом, сухим и колким. Над железными кровлями висело низкое, желтое, как ржавчина, небо. На Свентокшиской поставили печку и продавали жареную картошку — первый признак зимы. Из трубы шел дымок, то пытался подняться вверх, то расстилался по земле. У печки грели руки носильщики. Тупые, мутные глаза людей, которым давно не на что надеяться. По Панской брела старая прачка с огромным узлом на спине. Непонятно, как она не упадет под такой ношей. «Не одной мне тяжело, другие тоже мучаются, — подумала Ванда. — Как я до сих пор этого не замечала?» Ей захотелось подать милостыню какому-нибудь бедняку, но все нищие, видимо, попрятались от непогоды. Была б тут где-нибудь церковь, чтобы зайти, преклонить колени перед статуей Богородицы! Ванда начала тихо молиться, как это делала Фелиция: «Боже всемогущий и милостивый, Ты видишь мои страдания, знаешь о моем горе. Да, я согрешила, но он заколдовал меня, ослепил… Святая Дева, что мне делать? Плохо мне…» Снег с каждой минутой становился все гуще. Он уже не таял на меховом воротнике и колол шею, словно белый еж. Прохожих было мало, Ванда двигалась сквозь снежную пелену. Все побелело: тротуары, балконы, печные трубы. Попался навстречу еврей с облепленной снегом черной бородой, в длинном кафтане и сапогах с широкими голенищами. Он шагал против ветра — согбенная фигура с опущенной головой. Куда он идет? Наверно, в свою молельню… Он тоже молится Богу… Открытый магазинчик, за прилавком еврейка в чепце, вяжет чулок четырьмя спицами. Знает ли она, как она счастлива? У нее муж и дети, законные, а не какие-нибудь ублюдки. Ей не нужно сдавать экзамены и получать аттестат. Откуда-то появился высокий человек с шестом, на конце шеста язычок пламени — то ли фонарщик вышел зажигать газовые фонари, то ли ангел принес на землю небесный огонь. Дорога пошла под уклон. По обеим сторонам улицы стояли лавки и мастерские, где трудились сапожники, портные, жестянщики. Черный человек с волосами, как проволока, грязный, как трубочист, работал клещами. Не смотреть! А то ребенок будет уродом!.. Ванда улыбнулась: в ней просыпаются материнские чувства…
На Желязной Ванда долго искала, где живет Бобровская. Номеров на домах не разглядеть из-за снега, а лампочек у дверей, как в новых кварталах, тут не было. Уличные фонари отбрасывали тусклый соломенно-желтый свет. Наконец кто-то показал ей калитку, она вошла, и на нее тут же накинулась собака. Ванда отогнала ее папкой с тетрадями. Девушка распахнула дверь и выплеснула помойное ведро, чуть не попав Ванде на ноги. Она объяснила Ванде, как пройти к Бобровской. Осторожно поднявшись на крыльцо по гнилым ступеням, Ванда постучалась. Никто не отозвался. Она открыла дверь и сразу услышала крик: — Закрывай! Небось не лето!
В клубах пара толстая женщина гладила на столе платье. Горела керосиновая лампа. Завопил попугай в клетке.
— Стой! Дай снег смету.
Бобровская взяла веник и смела снег с башмаков Ванды.
— Что привело сюда паненку в такую метель?
— Вы пани Бобровская?
— Я, кто же еще.
— Простите…
Ванда замолчала.
— Ты говори, говори. А я гладить буду, а то утюг остынет. Чего хочешь-то? Пошить что-нибудь нужно?
— Простите. Может, пани знает, где найти графа Люциана Ямпольского?
Бобровская притопнула ногой.
— Надо же, я ведь как нутром чуяла! А на что он тебе? Животик, что ли, тебе приделал?
У Ванды чуть сердце не остановилось. Она попятилась к двери.
— Да не беги! Я женщина простая, привыкла прямо говорить. Снимай пальтишко, садись. У меня глаз наметанный, все вижу, мне пальца в рот не клади. Вон табурет. Садись к печке, погрейся. Чем смогу, помогу.
У Ванды потекли слезы, в горле застрял комок. В ней смешались два чувства: страх и давно забытая крестьянская покорность. Она еле смогла выговорить одно слово: «Спасибо».
— Ты раздевайся, раздевайся. Пальто просуши, а то, как выйдешь, продует. Погоди, сейчас доглажу. Граф твой — негодяй, уголовник, первый хам во всей Варшаве. И как ты ему в лапы попала? А ты ведь по виду-то из благородных…
Читать дальше


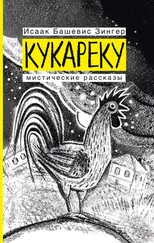

![Исаак Башевис-Зингер - Короткая пятница и другие рассказы[Сборник]](/books/148307/isaak-bashevis-thumb.webp)