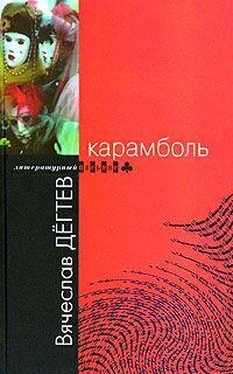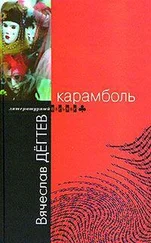И проводил до двери. Среди ожидавших в коридоре пронесся ропот: предатель! Мажаев же, зайдя в кабинет, тут же позвонил на вахту, приказал перехватить старика и под каким-нибудь невинным предлогом задержать на часок, чтоб тот не смог рассказать односельчанам, что и как. Будет сделано, отозвался дежурный. Мажаев же дернул к себе в кабинет новую жертву и стал терзать, давить на совесть. Когда номер этот не прошел, сказал: что ж, за укрывательство от властей правды есть соответствующая статья, вот умница Иван Петрович, например, во всем сознался, даже бумажку с признанием написал. И показывает давешнюю бумагу, изящно так при этом зажимая пальцем частицу «не», которая стояла в конце строчки. Человек видит: почерк в самом деле Ивана Петровича, и что он сознается в грехе, — и человек сам поскорее пишет «признание».
Через час половина вызванных написала «явки с повинной».
Но попалась одна религиозная старуха, очень набожная, которая никак не хотела колоться. Мажаев и так с нею, и эдак — нет! — и все тут. Можно было бы и отпустить ее — и без нее уже много собралось «телег» на Крысанова, но Мажаева заело: неужто не расколет какую-то малограмотную старушенцию, падкую тем более на опиум для народа?! А бабка до того почуяла свою силу, что посмела даже их усовещать: чем искать, дескать, позапрошлогодний снег, посмотрели бы лучше на их попа, отца Панкратия. А что поп? Ворует? Или, может, кого растлевает?.. Хуже!
И старуха пускается рассказывать, что заходит это она анадысь в церковь после службы, а там… а там, ах! прости, Господи! — а там Содом и Гоморра: их батюшка, отец Панкратий, бражничает в самом непотребном виде. А с ним собутыльники: шофер, сторож, звонарь и какой-то чужой, с золотыми перстнями. Она поначалу-то батюшку даже и не узнала: растелешенный, весь в наколках, разгубастился, в бороде капуста. С ней вместе заходит одна очень строгая схимонахиня, взирает неодобрительно и морщится: «Воистину, наступили последние времена!» На что поп кричит, да все по-матерному, все посарма: «Вот они, явилися, тунеядки! Последние времена! Последние времена! — передразнивает. — Сейчас только бабки настоящие повалили, а они шипят под руку о последних временах. У-у, стервы!» — и приказывает сторожу и звонарю гнать их, двух уважаемых старушек, в шею, что клевреты его гадкие с явным удовольствием и исполнили. До сих пор поясница болит… Вот кем нужно заниматься!
Бабку успокаивают: займемся, бабушка, займемся. И до попа вашего руки дойдут, мы ему рясу-то укоротим. Укоротите, голубчики, укоротите, а то ишь… распоясался, растелешился, разгубастился, а сам весь в наколках срамных. А что касается Крысанова — то она ничего не знает, не ведает. Вот те крест! Называется — приехали!
Тогда Мажаев берет фосфоресцирующий карандаш — менты таким карандашом деньги метят, пишут на купюрах «взятка», перед тем как всучить ее, — незаметно для увлекшейся антиклерикальными разоблачениями старухи, пишет на чистом листе бумаги кое-какие слова, которые при дневном свете совершенно не заметны. После чего, дождавшись, когда старуха кончит возмущаться негодным попом Панкратием, начинает ее усовещать: что ж ты, дескать, бабка, за нравственность попов борешься, нам тут мозги паришь, а сама упираешься, скрываешь от следствия правду, а ведь мы — власть, а всякая власть — от Бога. А Бог-то, Он все видит. Бабка не реагирует, по-прежнему старается перевести разговор на свое, между делом клянясь, что ни сном, мол, ни духом… Тогда Мажаев говорит: вот давай, дескать, проверим, врешь ты или нет. И кладет ей на голову тот чистый с виду листок. Думай, говорит, о Боге, думай о том проходимце Крысанове, Бог-то Он сейчас и укажет нам, врешь ты или в самом деле невинна, аки голубица.
Подержав немного листок, кладет его перед ней на стол, а помощник из-за спины бабки освещает листок прибором, испускающим ультрафиолетовые лучи. И буквы вдруг загораются огнем: «Прасковья! Что ж ты обманываешь следствие? Ты же ведь получала от Крысанова по пятьдесят копеек с веника. — И подпись: — Бог».
Старуха в шоке. Чуть под стол не лезет. Плачет, в полной истерике, раскаивается во всем. Раскалывается по полной программе. Тут же пишет явку с повинной, где все расписывает до мелочей, указывает свидетелей, кто что говорил и кто сколько давал и кто сколько получал. Но потом вдруг останавливается и спрашивает:
— Но я получала не по пятьдесят копеек с веника, как все, а по семьдесят, — у меня веники были крупные, крепкие, лучше других, и шли они у меня дороже, чем у других. Так как же писать? Как было, или… или как Бог велел?
Читать дальше