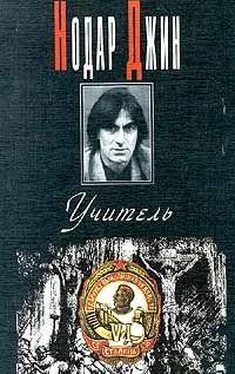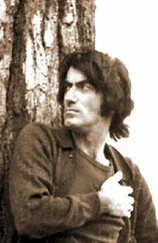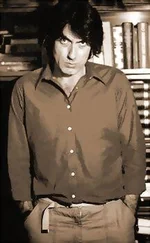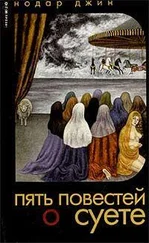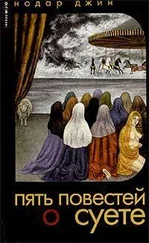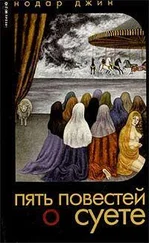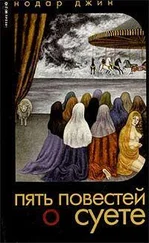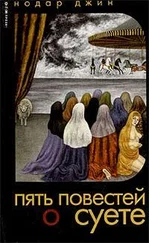Сказал он это в ответ на моё заявление, что — вслед за уже написанным романом о себе — я сочиняю «повесть о настоящем человеке». Его тёзке и моём земляке. О сыне сапожника, который начал «карьеру» с невинного стишка о розовом бутоне, а кончил…
Именно это мне и хотелось выяснить, — чем же он кончил? …Иное всегда вызывало у людей недоверие и желание его уничтожить…
К середине уходящего столетия, однако, Сталину удалось не только учредить, но и удерживать принципиально иное в самой середине земного пространства, на одной шестой части суши. И — главное — внести его в сознание каждого человека.
Суть этого иного — кардинальное действо во имя достижения вековечно истинного. Столь кардинальное, что оно влечёт за собой и преодоление извечных же норм. Порой — «незыблемых».
7. Хотя Бродский воспринял мою заявку с восторгом, его главный довод в её поддержку огорчил меня. Поскольку, мол, умер даже Сталин, конца не избежать и мне; а посему с книгой надо спешить: следующие поколения сочинителей, знакомых с грузинской душой Сталина, не будут знать (пост) — сталинской эпохи.
Я сделал ещё одно заявление: во-первых, всё в мире повторяется.
Чтобы легче было запомнить. И смеяться.
Во-вторых, даже если Сталин не воскреснет, этот роман о нём можно будет сочинить в любое время. И сочинить его сможет каждый, кому в выражении «грузинская душа» покоя не даст главное слово — второе. Ибо книгу о Сталине я действительно пишу «совместно» с ним — от первого лица.
От усатого и изрытого оспинами лица Иосифа Виссарионовича Джугашвили — настоящего человека, которому лучше других удалось притаиться в каждом настоящем же человеке среди нас…
Нодар Джин
1. Каждый раз вечность начинается неожиданно…
В этом деле трудней всего не сюжет сочинить или мысль.
Подобных вещей у меня скопилось не меньше, чем времени. Особенно после войны, когда оно перестало двигаться. Видно даже — из чего состоит вечность.
Без этого понимания, однако, сочинять не стоит: настоящая книга убивает не время, а вечность. Которую люди боятся. Потому, что вечность нигде не заканчивается. И каждый раз, как и сегодня, начинается неожиданно.
Лейб не играет в этой книге никакой роли, и я тут вспоминаю лишь, что он жил как стилист. И называл себя Львом Давидовичем. Соответственно, самым неожиданным считал не вечность, а наоборот, — старость. Красиво, но глупо. Как большинство лейбов, слова он знал все, но душу — только свою.
Перед его умением говорить красиво я до сих пор снимаю фуражку. Но перед его пониманием души — надеваю обратно.
Старость — это слово. Пустое. Умираешь не после старости, а после жизни. Иначе ничего пугающего в смерти не было бы.
Пустых слов я наслышался столько, что под их грузом мой ЗИС утонул бы сейчас в этом снегу. Слов вообще много — и писать их легко.
Трудно другое — обойтись без памяти. Забыть, что про всё на свете уже знаешь. Сочинительство требует умения удивляться. Но удивлению мешает память.
Без неё у меня не было бы и привычки к себе. А я к себе привык. Не живу без себя и дня. Писатель же должен уметь обходиться без себя. Поэтому я и хотел им стать. Все остальные ко всему привыкают. Даже к смерти.
Я не знаю никого, кто не привык бы к ней и вернулся. За исключением Учителя. Который и играет в этой книге главную роль. Вместе со мной.
Но Учитель знал глаголы вечной жизни. Стань я с самого начала сочинителем, — сочинял бы только о нём. Даже жизнь свою — если начать заново — прожил бы как Учитель. Без привыкания к ней. И умер бы так же. Без привыкания к смерти.
В детстве — пока я ещё не привык к себе — у меня была уйма времени жить не своей жизнью. Но за это наказывали. Ибо мне приходилось говорить не свои слова.
Я воображал себя не человеком. Русским богатырём, например. На коне.
Или монгольским ханом. Тоже на коне. Конь человечнее автомобиля. Тем более — человека.
С высоты седла мне открылся вид на другой мир. Не на лачугу мою глиняную, а на каменные дома со шпилями над чистой рекой. А она плещет и подрагивает янтарным бисером фонарной ряби. В эти минуты дятел стучал не по дереву. По моему сердцу. И слова получались не мои, а другие. Глаголы.
Отец, однако, пинал меня сапогом:
— Зачем, выблядок, такой слово в рот берёшь?!
На пинки я не обижался: он имел на то право, а правом надо пользоваться. Я обижался на непонимание.
Позже, в семинарии, стал воображать себя богом. Пока не вычислил, что он-то и начинил человека дерьмом, ибо сотворил его по своему подобию. И меня снова принялись бить. Но теперь уже я обижался на себя. Тоже за непонимание.
Читать дальше