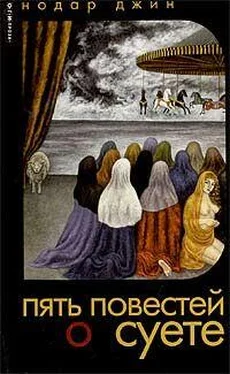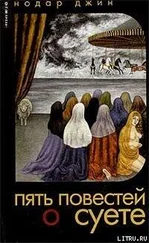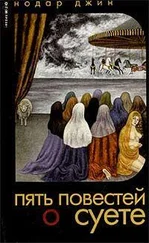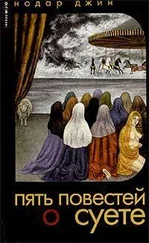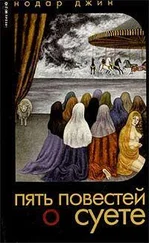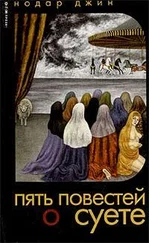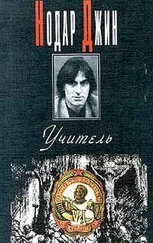Натела не поняла вопроса, и Савич подсказала: Кем бы вам хотелось быть, если бы вы, мол, были не самою собой? Маргарэт Тэтчер, Мартиной Навратиловой, Джейн Фондой, датской принцессой, кем?
Исабелой-Руфь, рассмеялась Натела, как умела смеяться раньше.
Кто такая Исабела-Руфь? — удивилась Савич.
У нас есть время? — ответила Натела.
Да, сказала Савич, двадцать секунд.
Натела вздохнула и хмыкнула: «Забудьте о ней!»
В отличие от Даварашвили, меня насторожил не вид Нателы. Насторожила её искренность. Она была слишком умна, чтобы честно делиться с публикой мыслями. Тем более такими, которые публику не устраивают.
Савич спросила, например: Что бы вы могли сказать об Америке?
И Натела ответила: Всё, что угодно! Америка — единственная страна, о которой можно говорить всякое, хорошее и дурное, и всё будет правдой. Потому что только Америка ничем не отличается от остального мира.
Никто из эмигрантов не рискнул бы врезать такое новой отчизне. Девяносто один процент населения которой, по статистике, объявленной в той же телепрограмме, лжёт ежедневно и, стало быть, желает слышать о себе именно ложь. Натела рискнула, и, следовательно, либо ей не с кем было общаться, либо ей всё уже было нипочём.
Эта передача состоялась в воскресный вечер. «Протоптать тропинку в роскошный особняк» я наметил себе в ближайший срок — во вторник. Понедельник приберёг для преодоления гордыни.
Пришлось, однако, в этот день общаться с гостями из ФБР.
Одного из них, Кливленда Овербая, я знал давно, с начальных недель «обретения свободы». Приходил он тогда тоже не один и задавал каверзные вопросы, а спутник записывал мои ответы.
Они пытались выяснить — почему же всё-таки я покинул родину, ежели всё у меня было там именно так, как показано в анкетах. Я ответил как положено: Девальвация духа! Почему же тогда приехали в Америку? — удивился Кливленд. А потому, ответил я, что это — единственное место, где можно освободиться от родины и других дурных привычек. Сентиментальности и курения.
Кливленд Овербай мне нравился, поскольку быструю речь я тогда понимал нелегко, а он задавал вопросы медленно.
На третий день я сделал обобщающее заявление: Я не шпион и прибыл в Штаты не по заданию ГеБе, а по собственному почину. Услышав слово «ГеБе», писец, не-Кливленд, расплылся в блаженной улыбке: А были ли контакты с этим, как же это выразились — с ГеБе?
Конечно, были, удивился я.
На следующее утро помимо Кливленда объявились уже два не-Кливленда. Допрашивали долго, хотя напоминали, что избранный ими жанр называется «беседой за чаем». Которым жена поила нас щедро.
Вторая чашка оказалась чересчур горячей, и новый не-Кливленд осторожно опустил её на стол, подул на неё и задал мне вопрос, ради которого пришёл: А дали ли мне в ГеБе поручение?
Я задумался и решил сознаться, ибо. Я знал, что враждующие разведки щеголяют широким диапазоном принципов, то есть безнравственностью, — и поэтому протокол моего диалога с Абасовым вполне мог прибыть в Штаты до меня самого. Кроме протокола от Абасова я подумал ещё о Евангелии от Матфея: «Нету ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не стало бы явным».
Посмотрев агентам в глаза, я объявил, что начальник контрразведки поручил мне жить тут как я и живу. Среди родного народа. В осмысленной о нём заботе.
После некоторого молчания Кливленд рассмеялся, попрощался и сказал, что у него четверо детей, а сам он увлекается дзен-буддизмом. Почему, собственно, ему и приходится иногда мыслить, а иногда — просто быть.
После избрании меня председателем Землячества он навещал меня уже только по праздникам. И без спутников. Пил чай, рассуждал о технике медитации и задавал вопросы о новоприбывших петхаинцах.
Я сознавал, что чаепитие со мной входит в его обязанности — и не возражал, поскольку у него было четверо детей. К тому же информацию, которую я поставлял ему, приходилось измышлять. А это меня забавляло.
Кливленд, конечно, догадывался об этом, но уважал меня и всё записывал.
Про Занзибара Атанелова, например, я рассказал, что он отличается феноменальной стыдливостью в присутствии участниц своих ночных фантазий. Как многим петхаинским мужикам, ему кажется, будто к восходу солнца содержание его снов становится известным каждой воображённой им сексуальной партнёрше.
В свою очередь, Кливленд Овербай забавлял меня рассказами о дзене. Дзен восхищал меня по великолепной причине: он отвергает скоропортящийся мир ясных идей и орудует парадоксами. Непостижимыми, как бесхитростное существование. Но вышибающими человека из его обычного состояния транса.
Читать дальше