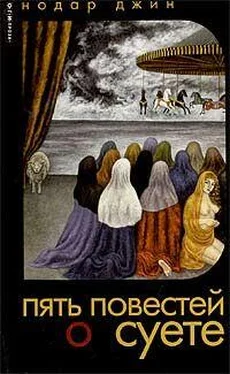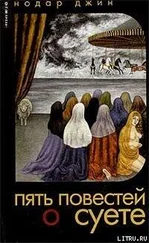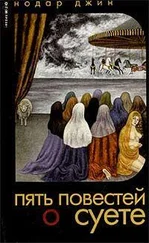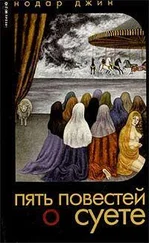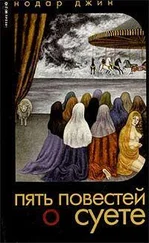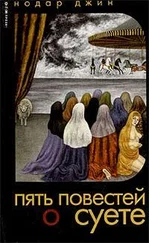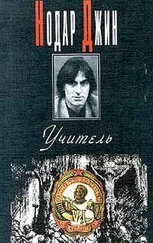В самом начале зимы много лет назад в петхаинскую скотобойню пригнали небывало много быков. В отличие от коров их решено было забить на мясо из-за нехватки корма для всей скотины.
Днём в нашем квартале, где располагалась скотобойня, стоял истошный рёв закалываемых животных, а вечерами по улицам и дворам всего Петхаина расползался сладкий запах палёной бычьей плоти. Впервые на моём веку петхаинцы кутили без внешнего повода: новогодний праздник уже миновал, а до других было не близко.
Из-за отсутствия повода петхаинцы кутили особенно остервенело, хмелея не столько от вина, сколько от огромного избытка мяса, из-за чего выражение лиц у них стало ещё более глухим и диким. Я удивлялся, что люди, нажравшись шашлыков, горланят меланхолические песни о любви и что пожирание живности может так искренне радовать человека.
Мой дед Меир, бывший не только раввином, но и резником, — чего, кстати, отец, прокурор и вегетарианец Яков, очень стеснялся, — заметил по поводу моего удивления, что Бог ждёт от человека не святости, а понимания. То есть — не отказа от убиения живности, но сострадания к ней при убиении.
Только евреи, твердил он, умерщвляют с пониманием. Сострадальчески.
Я рассмеялся.
Тою же ночью — в ответ на мой смех — дед забрал меня с собой на бойню, где ему предстояло умертвить очередного быка к свадьбе, поначалу намеченной на конец весны, но теперь наспех приуроченной к завозу дешёвой скотины.
По дороге он объяснил, что иноверцы закалывают её остроконечным ножом. Метят в сердце, но, промахиваясь, бьют повторно.
Беда, однако, в другом. Если даже удар и приходится в цель с первого же раза, скотина умирает, мол, медленно и пребывает в полном сознании свершающегося над ней насилия. В этом, собственно, и заключается грех. Не в заклании, а в осознании скотиной акта насилия над ней.
Вдобавок, сказал дед, нож, врываясь в плоть, разрывает, а не рассекает мышцы, тогда как при выходе из раны кромсает живую ткань и доставляет жертве оскорбительную боль…
10. Сплетен я из плоти зыбкой
Бойня, служившая в войну госпиталем, представляла собой длинный ангар, разбитый на отсеки.
В переднем, утопая в земле, стояли огромные весы, придавленные грудой разделанных туш. В следующем стоял мерзкий кисло-сладкий запах неостывшего мяса и нечистот. Несмотря на поздний час, этот отсек оказался забит множеством молчаливых и небритых мужиков. Не глядя друг на друга, они — по двое у каждой вздёрнутой на крюк туши — с наслаждением орудовали топорами и колунами. В паузах между доносившимися из дальнего отсека отчаянными криками скотины слышались близкие, но глухие звуки ударов металла по кости и треск сдираемой шкуры.
Дед протащил меня за руку ещё через несколько отсеков и, наконец, пнув ногою дверь, ввёл в крохотное помещение, в собственно бойню, освещенную тусклым красным светом заляпанной кровью лампочки на низком шнуре.
Стоял густой солёный смрад. Как в зверинце.
Стены были вымазаны темно-серой известью, а на полу, в середине, зияла овальная ямка для стока крови.
Под потолком, выкрашенным в неожиданный, серебристо-бирюзовый, цвет, в дальнем углу, свисал с гвоздя забрызганный кровью репродуктор довоенных времён:
Этот стих неисчерпаем, потому что он — душа.
Речь поэта стоит много, — жизнь не стоит ни гроша.
Что захочет — то услышит в этой речи человек:
Потому я за стихами коротаю этот век.
Сплетен я из плоти зыбкой, грешен я и уязвим;
Лишь в стихах я — отблеск Божий: негасим, неуловим…
— Иэтим Гурджи! — кивнул дед в сторону репродуктора и, раскрыв кожаную сумку, вытащил из неё плоскую деревянную коробку, в которой хранил ножи.
Под репродуктором спиной к нам стояла грузная женщина с высокими тонкими голенями и неправдоподобно круглыми икрами. Плечи, как крылья огромной птицы, были заправлены вперёд — от спины к грудям.
— Иэтим? Поэт? — спросил я, наблюдая как, откинув крышку коробки, дед бережно взялся за рукоятку ножа и поднёс его к глазам.
— Нет, он не поэт: поэты выбирают слова, а потом записывают на бумагу. Иэтим этого не делал, он был занятый человек. Перс. Сирота и бродяга… Он ничего не писал — только разговаривал в рифму, — и, проведя ногтём большого пальца по острию ножа, дед добавил: — Персы очень чувствительный народ. Скажи что-нибудь, Сильва!
Сильва ничего не сказала, но обернулась. Лицо у неё оказалось круглое, с влажными печальными глазами, а в белках покачивались и пульсировали очень тёмные зрачки.
Читать дальше