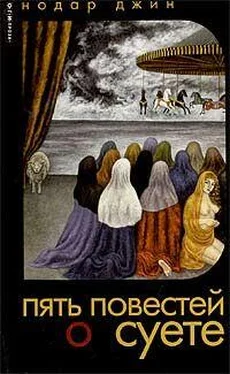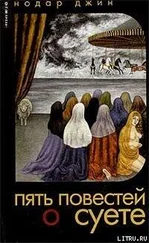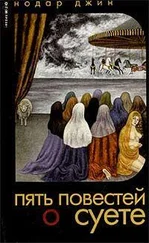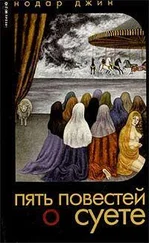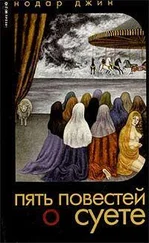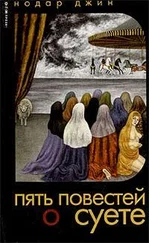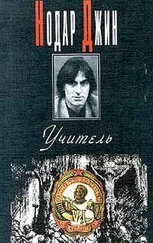— Хорошо делаешь! — шепнула Сильва и прикрыла глаза задрожавшими веками. — Как мальчик! Как даже гусь!
— Что? — опешил я. — Как кто?
— Ты не останавливайся… В Персии женщины сыпят себе туда кукурузные зёрна и дают их клевать голодному гусю… Это очень хорошо… Ты только не останавливайся…
11. Человек боится того, из чего состоит
Отказавшись думать о голодном персидском гусе, я достиг, наконец, пальцами самого раскалённого участка её плоти. От прикосновения к нему меня накрыло мягкой волной, под которой мне стало необычно легко и необычно тепло. Как в густом и огромном мешке мыльной пены в нашей восточной бане.
Я ощутил как во мне стала разливаться слабость, но она уже не пугала меня и не мучила, а, напротив, отцеживалась в какую-то странную силу…
Надрезанный в суставе палец напрягся, протиснулся дальше и упёрся в упругий скользкий бугорок. Перевалив через него, он ушёл вовнутрь, в тесную глубину, пропитанную вязкой влагой, которая потекла по пальцу к запястью. В ранке на суставе стало щипать, и тут я услышал из-за двери хриплый кашель деда.
Отскочив от персиянки, как ужаленный, я оказался под репродуктором:
Если бы любить друг друга и беречь мы не могли, —
Верь пророку Иэтиму: нас бы сбрило, как щетину,
Опалило, как щетину, как никчемную щетину,
Прочь с лица земли.
Спиной к Сильве и к деду, в изумлении и в страхе, я разглядывал свой покрытый кровью палец, — не моей, а густой кровью персиянки. Волосы на запястье слиплись в засыхающей влаге, от которой несло тошнотворным духом. Стоило мне догадаться — что это была за влага, как меня передёрнуло от стыда за всех людей в мире, за всё живое и смрадное. За то, что всё, наверное, в этом мире внутри ужасно.
Потом я удивился тому, что раньше этого не знал: никто мне этого не говорил. Говорили разное, но не то, что даже без ужасов всё внутри так ужасно. Почему же никто не говорил мне об этом? А не может ли быть, что этого ещё никто не знает, — только я? Нет, рассудил я, такого быть не может. Может, однако, быть другое: это ничуть не ужасно, и кажется это ужасным только мне, потому что я знаю меньше, чем все. Может быть даже, что мир не только не ужасен без ужасов, а, наоборот, чудесен без чудес…
— Выключи радио! — прервал меня резкий голос деда.
— Почему? — насторожился я, скрывая кулак.
— Сейчас приведут быка, — и погладил лезвием ножа камень.
— А где Сильва? — забеспокоился я.
— Пошла за скотиной.
— У меня вопрос, — сказал я, не торопясь счищать кровь.
Дед не возразил, и я добавил:
— Почему человек боится крови?
— Это глупый вопрос. Кровь напоминает о смерти.
Я качнул головой:
— А может ли быть, что человек боится того, из чего состоит.
— Выключи, говорю тебе, радио! — рявкнул дед.
12. Самое трудное — нелюбовь к близкому человеку
Бык, которого ввела в помещение персиянка, не чуял близкого конца. Таращил, правда, глаза, но делал это то ли из любопытства, то ли оттого, что думал о себе как о ком-то постороннем.
Как о постороннем, думал о себе и я. Я думал о том, что хотя быков видел и раньше, но только сейчас осознал, что их убивают. Понятия в моей голове, объяснил я себе, разобщены меж собой. Поэтому, хотя я уже знаю, что мир един, я забываю видеть в нём вещи как они есть — не отдельно друг от друга, а в их единстве…
Бык на лугу в деревне и говядина в обед представлялись мне всегда разными вещами. Бык на лугу — это бездумность летних каникул и свобода от времени. Говядина стоила дорого, и в Петхаине ели её только в субботние кануны. В наш дом наваливали обычно родственники, и дед — живо, как собственные воспоминания — рассказывал за ужином библейские предания, наполнявшие меня чувством причастности к чему-то несравненно более значительному, чем моя жизнь.
И вот, сказал я себе, эти два разобщённых мира впервые сошлись предо мной воедино. Когда Сильва ласково подталкивала быка ближе к сточной ямке для крови, — тогда я и осознал, что быки, которых мне приходилось видеть только в деревне на лугу, существовали для того, чтобы превращать их в говядину.
Убиение, прекращение жизни, с чем я столкнулся в ту ночь впервые, сводило воедино два разных пленительных мира. И это не удивило, а возмутило и надолго отвадило меня не только от шумных субботних застолий с их праздничными запахами и не только от библейских легенд. В ту ночь впервые в жизни я познал самое трудное — нелюбовь к близкому человеку, к деду.
Читать дальше