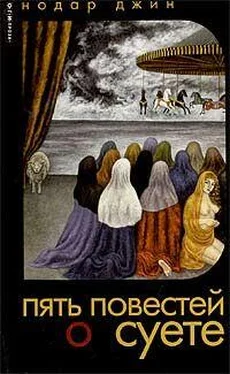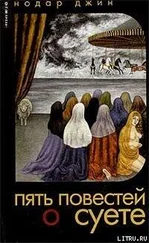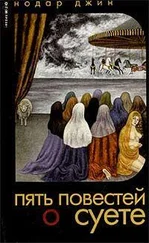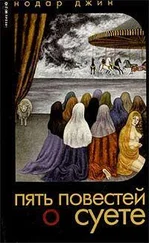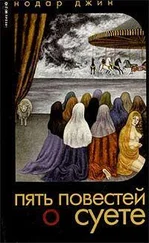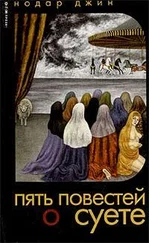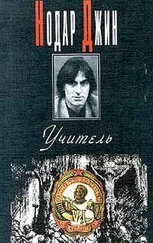Первый называл центром земли Петхаин, где вместе с толстозадой учительницей пения мечтал учредить школу для канторов, а второй считал центром рай, где среди горбоносых пророков порхают прозрачные балерины, выражающие в танце неудержимое желание принять еврейскую веру.
Вопреки подобной ереси, к которой Мордехай относил также и учение школьного преподавателя географии, пупом Вселенной он называл Иерусалим. Такого же мнения придерживался и раввин Меир — что убеждало Симантоба в благомудрии мальчика.
Но однажды, когда Мордехай стал юношей, замкнулся в себе и вместо синагоги начал посещать клуб изящных искусств, Симантоб обнаружил среди пасхальной посуды в чулане ворох рисовальных листов, и на них — карандашами и чернилами, красками и тушью — была изображена нагой его дочь Лия.
Мордехай страдал уже давно.
Даже во сне его не отпускала боль, которая то сворачивалась комком в желудке или горле, то, наоборот, растекалась по всему телу, как тоска, а то, реже, била горячим ключом в мозг, отчего внутри наступал сперва холод, а потом — ощущение лёгкости. В такую минуту ему впервые и захотелось нарисовать портрет Лии, что, как ему казалось, его и вылечит. Боль, впрочем, не исчезала, и, не найдя ей названия, он согласился, что его настиг недуг, называемый любовью и описанный даже в Завете: «Ты прекрасна, подруга моя, ты прекрасна!»
Но это открытие его напугало, ибо Лия была ему не подругой, а сестрой, и потому любовь, не переставая приносить страдания, оказалась к тому же запретной.
Лия, в свою очередь, ходила озадаченная. Не заметить, что брат стал отворачиваться от неё, было невозможно, но теряться в догадках она перестала не раньше того дня, когда Мордехай, напившись впервые в жизни на свадьбе Рыжего Сёмы, вернулся домой перед самым восходом солнца. Он прокрался на веранду, где спала сестра, присел на корточки перед её тахтой и, растопырив пальцы, осторожно приложил ладонь к её обнажённой груди.
Лия проснулась, но не решилась открыть глаза.
Ладонь показалась ей сперва ледяной, а потом, когда Лия перестала дышать, — жаркой.
Мордехай же не чувствовал ни холода, ни тепла: рука его онемела и стала деревянной, зато внутри он вдруг обмяк и ощутил тишину.
С того дня он и начал рисовать Лию нагую. Запирался в чулане и при свете керосиновой лампы списывал с альбома обнажённое тело гойевской махи. Лицо срисовывал с Лии по памяти.
Скоро он осмелел и стал сочинять сам. Написал в красках полумрачный молитвенный зал; в глубине белел шкаф с распахнутыми дверцами, а в нём — свиток Торы; над шкафом, над Ковчегом Завета, свисала парчовая гардина со звездою Давида, а впереди, на помосте, лицом к себе, Мордехай изобразил Лию; она была нагая, руки вздёрнуты к Богу, и потому груди с тёмными сосками стояли торчком; в ногах у неё лежал семисвечник с огарками, а под ним мерцали еврейские квадраты — «Оглянись, оглянись, Суламифь!»
Когда Симантоб наткнулся на рисунок, его вскинуло, как от пощёчины, а костыль выпал из подмышки. Сославшись на бессоницу из-за громкого посапывания жены, он перебрался ночевать на веранду, на тахту дочери, а ей велел спать отныне в его кровати рядом с Хавой. Рисунок же забрал из чулана и запихнул под тюфяк на тахте, где Лия хранила фотографии родной матери, к которой Хава ревновала не только мужа, но и падчерицу.
Наутро после переселения в спальню девушка спохватилась и решила перенести фотографии под свой новый тюфяк. Так она и обнаружила этот рисунок, посчитав, что его подсунул Мордехай. Теперь уже гадать оставалось ей только лишь о том как же вести себя с братом. Ответить на вопрос оказалось трудно, поскольку страх не позволял ей разобраться в самой себе и решить: нравится ей это или нет. Ни до чего, между тем, она не додумалась, предоставив действовать не столько Мордехаю, сколько будущему.
Не предпринимал ничего и Симантоб, ибо уже через три месяца, после окончания школы, Мордехаю предстояло уехать на учёбу в Киев, о чём Хава вспоминала при падчерице со слезою в голосе. Не подавая вида, горевала и Лия, хотя держалась с братом то надменно, а то боязливо, чего Симантоб не видеть не мог.
31. Не будите, увы, и не возбуждайте любовь
Однажды к Симантобу с Хавой пожаловал в гости раввин Меир — поздравить с окончанием выпускных экзаменов у детей. Он не оставлял без внимания ни одного события в жизни общины, особенно печального, и петхаинцы дивились — откуда у старика хватало слёз для всех?
Читать дальше