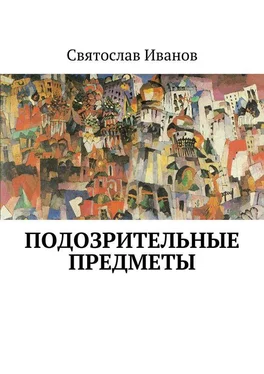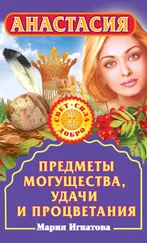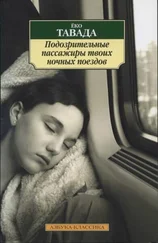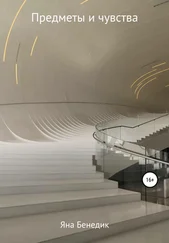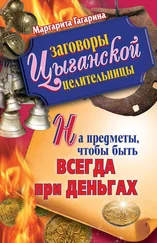– Меня волнуют только цифры в моих гонорарах, ха-ха. Мой возраст не мешает мне работать, да и вообще что это значит – возраст? До моих лет доживает большинство людей, а вот тридцать лет творческой деятельности – для меня гораздо более серьёзный юбилей. После первой же роли мне стало ясно, что я не хочу быть кем-то другим. И вот все эти годы я служу лире, музе, искусству.
А теперь – наш бессменный автор Алик Гонеш со своей ежедневной колонкой по существу.
Так получилось, что я был одним из последних, кто беседовал с ушедшим на днях великим лингвистом Андреем Давыдовичем Шароваровым, и то это интервью прошло незамеченным среди кого бы то ни было, кроме завсегдатаев «Журнального зала», несущих свою вахту в прокуренной кухне и не снисходящих до того, чтобы распространять свои взгляды за её пределы. За это мне перед Андреем Давыдовичем как-то особенно неловко, к тому же и интервью-то получилось не ахти – к тому же, самую интересную мысль он высказал мне не под запись, и при просьбе рассказать о ней в ходе самого интервью, Шароваров заметил, что её время ещё не пришло.
Мысль, строго говоря, никакая не научная, но публицистическая – это мне стало понятно только сейчас, когда академика не стало. Она пришла к Шароварову при изучении одного социологического исследования, измерившего симпатию жителей разных стран к иностранным языкам. Участникам исследования в случайном порядке ставили записи некоего текста, прочитанного на разных языках мира, а они по десятибалльной системе оценивали его благозвучность.
Шароварову в голову пришёл вывод, годившийся для шутки за дружеским столом, но после некоторых подсчётов ему стало ясно, что это тянет на научную гипотезу. В общем, по его информации, общая, всемирная благозвучность языка прямо пропорциональна количеству в нём гласных букв. А количество гласных букв имеет тенденцию зависеть от развитости языка – чем больше людей разных этносов и культур на нём разговаривает, тем более полнозвучным он становится с течением десятилетий.
Гипотеза неполиткорректная – в условиях того моря информации, в котором мы тонем, в ней, безусловно, увидели бы гитлеровское деление на -убер и -унтер – и тут-то пожилого Шароварова можно было брать руками. «Я мог бы сделать шаг назад, но разве это то, что мне нужно?» – риторически спросил себя сам Шароваров, и продолжил исследования. Вроде бы скоро должна выйти соответствующая научная работа, которую, я надеюсь, академик успел закончить к своей смерти. Мне грустно подумать, что станет с этой концепцией в дальнейшем – её спишут на дряхлый разум старика, да и отправят в металлолом. Время от времени её будут вспоминать – и хлёстко поносить, особенно в узком околонаучном кругу.
А ведь хитрый Шароваров всегда мыслил глобальнее, чем просто в области языка. Я ещё из детства помню его журнальные публикации, в которых вопросы языкознания разбирались с той необычайной лёгкостью, которая позволяла его мыслям усваиваться и в совсем неприспособленных к лингвистике головах. Во времена, когда одни с изумлением смотрели на запад, а другие с восторгом глядели на восток (разве эти времена, впрочем, закончились?), к нему поступали сигналы с разных сторон, и он умудрялся их обрабатывать, не отходя от станка. А при наступлении капитализма этот человек раньше прочих понял, что дело не в деньгах и не в количестве женщин, – и нёс это понимание с достоинством. Весь мир был для него декорацией, в которой он с породистой походкой появлялся в самый неподходящий момент и – пусть тщетно, – но старался изменить действие в лучшую сторону своими многоумными рассуждениями. Сограждане же, в лучшем случае, цитировали его где попало и где ни попадя. Кого-то всё услышанное и вовсе погружало в сон.
Так же и я наверно не понимаю до конца глубокой мысли академика насчёт той нелепой, на первый взгляд, языковой теории, но вот вам предположение, аккуратная, ни к чему не обязывающая трактовка.
Гласные и согласные – это же не только звуки, из которых строится наша речь. Это ещё и согласные и несогласные – мнения, для обмена которыми эта речь существует. Несогласным можно быть с чем угодно: с логическим блоком собеседника, с людоедским законом, с окружающим мироустройством. Согласных мы тоже видели – и да, их должно быть больше, чем несогласных, но когда их количество перевешивает в два раза и более, речь превращается в трднпрзнсм блбрд, от ктрй слштл зткт уш.
Чем больше сквозняка, тем больше движения и колебания – как в речи, так и в обществе, как в человеческой душе, так и во вселенной, – тем больше гласных звуков, они же несогласные. Разве ты этого хочешь? – спросят меня; – Разве это что-то меняет? – спросят ещё резоннее. Да, отвечу я, указывая на портрет Шароварова, который я повесил у себя в подъезде, раз уж мы и так – как стало окончательно понятно за последний год-два – идём вслепую в странных местах, то я почти уверен, что немного хаоса каши не испортит (всяко лучше, чем хвататься при любом удобном случае за пахнущий плесенью флаг). Едва ли я когда-нибудь услышу от своих оппонентов, что в этом вопросе я был прав, но лично мне эта параллель – гласных и несогласных звуков с мыслями и людьми – помогает избавиться из страха, что мы хуже, чем можем. В конце концов, русский язык, согласно тому исследованию, от которого отталкивался Шароваров, был одним из самых благозвучных. Сиречь развитых, цивилизованных. Главное не слишком ускоряться в нашем беге назад – скоро бежать будет уже некуда: ещё метр – и льды.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу