Итак, это я говорю, только я, ибо не говорить не могу. Нет, я безмолвствую. Кстати, о разговоре, а что если я замолкну? Что произойдет тогда со мной? Хуже, чем то, что происходит? Тьфу, снова вопросы! Это типично. Вопросов я не знаю, а они продолжают извергаться изо рта. Кажется, я догадываюсь, в чем дело. Все делается для того, чтобы помешать мне окончить речь, пустую речь, не приносящую мне лавров, ни на звук не приближающую к молчанию. Но я настороже, на вопросы я больше не буду отвечать и даже не буду делать вид, что отвечаю. Возможно, мне придется для того, чтобы не иссякнуть, придумать еще одну историю, все же придумать, о головах, туловищах, руках, ногах и всем прочем, выпущенном на волю, в неизменный круговорот несовершенных теней и сомнительного света. Но я надеюсь и верю, что не придется, хотя в случае необходимости всегда это сделаю. Ибо, отпуская шутки, со мной это случается, или с тем, кто выдает себя за меня, я не был невнимателен. И мне показалось, что я слышу шепот, открывающий еще один, менее неприятный способ покончить с моими бедами, и даже сумел понять его, не прекращая ни на мгновение извергать свои «он сказал», «он сказал себе», «он спросил», «он ответил», многообещающие формулировки, и обещал себе ими воспользоваться, непременно, при первой же возможности, то есть как только мне удастся покончить с моими придурками. Но все выветрилось из моей головы, ибо трудно говорить, даже ерунду, и одновременно сосредоточивать внимание на чем-то другом, действительно интересном, как судорожно подтверждает тихий шепот, словно извиняющийся за то, что он еще не затих. Кажется, я услышал то, что мне следует делать и говорить, чтобы ничего больше не делать и не говорить, но я едва это расслышал, из-за шума, который вынужден был производить, повинуясь непонятному требованию непостижимого проклятия. И все же отдельные слова произвели на меня немалое впечатление, и я дал клятву, продолжая скулить, никогда не забывать их и, более того, добиться, чтобы они породили другие и, в конце концов, полились неудержимым потоком, изгоняя из моего мерзкого рта все прочие высказывания, кроме моих собственных, наконец-то истинных и последних. Но все забыто, я ничего не добился, если только то, чего добиваюсь сейчас, не является чем-то, и ничто не могло принести мне большего удовлетворения. Ибо, если в такой момент до меня донеслась такая музыка, если я ее услышал, путаясь в нудных хрониках умирающих, вздрагивая, дергаясь, корчась и падая в недолгие обмороки, то с неизмеримо большим основанием я имею право не слышать ее сейчас, когда, по всей видимости, обременен одним собой. Но я снова произвожу мысль. И я вижу, как опускаюсь, пусть не до последней крайности, но все же до выдумки. Не лучше ли просто повторять, скажем, «ба-ба-ба», ожидая, пока выяснится истинная функция этого почтенного органа? Довольно вопросов, довольно рассуждений, я повторяю годы спустя, в том смысле, что я, полагаю, молчал все эти годы, могу замолчать на годы. И опять этот шепот. Все довольно непонятно. Я говорю «годы», хотя годов здесь нет. Разве важно, сколько? Годы – одна из идей Базиля. Долго ли, коротко ли – одно и то же. Я молчал, и это самое главное, если это главное, я забыл, считается ли это главным. И сейчас мне тоже не вспомнить. Молчание, но какое молчание! Прекрасно, конечно, молчать, но необходимо отдавать себе отчет, как именно молчишь. Я слушал. А мог бы и говорить, с тем же успехом. Какая свобода! Я из последних сил напрягал слух, пытаясь расслышать свой голос, очень тихий, очень далекий, похожий на гул моря, далекого безмятежно стихающего моря – нет, ничего подобного, никакого берега, а тем более побережья, довольно одного моря, хватит с меня гальки, хватит земли, да и моря тоже. Решительно, Базиль приобретает все большее значение, впредь буду называть его Махуд, так мне больше нравится, странный я. Это он рассказывал мне обо мне, жил вместо меня, исходил из меня, возвращался ко мне, входил в меня, заваливал мою голову всякой всячиной. Не знаю, как это ему удавалось. Мне нравилось не знать, но Махуд говорил, что я не прав. Он тоже не знал, но это его беспокоило. Это его голос часто, всегда, смешивался с моим, а иногда полностью заглушал. Пока, наконец, не оставил меня навсегда или отказался оставлять вообще, точно не знаю. Да, я не знаю, находится ли он сейчас здесь или далеко отсюда, но, кажется, я не слишком заблуждаюсь, заявляя, что он прекратил мне досаждать. Когда его не было, я пытался снова обрести себя, забыть сказанное им, забыть о себе, о своих бедах, дурацких бедах, об идиотских обидах, в свете своего истинного положения, отвратительное слово.
Читать дальше
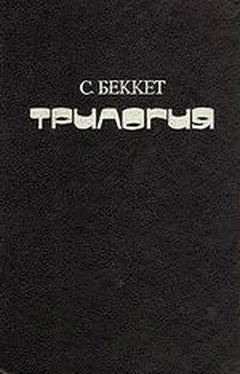

![Сэмюэль Беккет - Счастливые дни [другой перевод]](/books/98045/semyuel-bekket-schastlivye-dni-drugoj-perevod-thumb.webp)
![Самуэль Беккет - Последняя лента Крэппа [другой перевод]](/books/98046/samuel-bekket-poslednyaya-lenta-kreppa-drugoj-pere-thumb.webp)


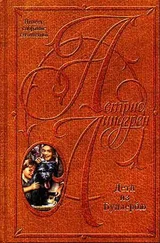
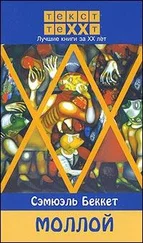
![Самуэль Дилэни - Город смерти [Вавилон-17, перевод изд-ва `Мэлор`]](/books/347065/samuel-dileni-gorod-smerti-vavilon-thumb.webp)
