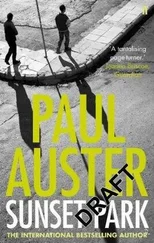— Бедное дитя. — Она осторожно дотронулась до моего лица. — Бедное, несчастное дитя, смотри, как ты порезалась. Хотела помочь старой женщине, и вот на тебе. А знаешь почему? Я приношу несчастье. Все это знают, только не решаются сказать мне правду. Но я сама знаю. Можно мне об этом не говорить.
Из ссадины на левом виске (видимо, поцарапалась о камни, когда упала) сочилась кровь. Ничего серьезного. Я уже хотела распрощаться, но не смогла бросить ее одну посреди улицы. Надо проводить ее до дому, убедиться, что по дороге с ней ничего не случится. Я помогла ей встать на ноги и забрать свою тележку.
— Фердинанд будет в ярости, — сказала она. — Третий день подряд прихожу с пустыми руками. Если так и дальше пойдет, нам конец.
— Сейчас, мне кажется, вам лучше пойти домой, — сказала я. — Отдохните. Вы не в том состоянии, чтобы толкать тележку.
— А Фердинанд? Если я ничего не привезу, он меня растерзает!
— Не растерзает, — успокоила я ее. — Я ему объясню, что произошло.
Я сама не понимала, что говорю, в меня словно вселилась какая-то сила: внезапный приступ жалости, наивное желание защитить эту несчастную. Может, все эти истории о чудесном спасении — не такие уж и выдумки? Если им верить, ты в ответе за спасенного, и, хочешь или нет, тебя с ним на всю жизнь связывает неразрывная нить.
Почти три часа мы добирались до ее дома. В обычных обстоятельствах хватило бы и часа, но Изабель еле шла, у нее заплетались ноги, и когда мы наконец добрались, уже садилось солнце. То и дело тележка выскальзывала у нее из рук («пуповину» она где-то недавно посеяла) и с грохотом убегала по булыжной мостовой. После того как какой-то проходимец чуть не увел ее у нас из-под носа, я взялась за обе тележки, и это еще больше замедлило наше продвижение. Мы выбирали обходные дороги в шестой избирательной зоне, стараясь держаться подальше от всех этих «таможен» на Мемориальной улице, потом долго тащились через Офисный сектор по Пирамидной улице, где недавно выстроили полицейские бараки. За это время Изабель в своей сбивчивой манере успела мне поведать многое из своей жизни. Ее муж когда-то был преуспевающим рекламным художником, но одни компании позакрывались, другие дышали на ладан, и Фердинанд остался без работы. Он запил. Деньги по ночам подворовывал у жены из сумочки, а еще развлекал рабочих винокуренного завода танцами и разными байками. Но однажды его сильно избили, и с тех пор он на улицу не выходил. Сидел затворником в их крошечной квартирке, неразговорчивый, безразличный к завтрашнему дню. В практические вопросы он не вникал, оставляя их на усмотрение жены. У него было хобби: миниатюрные кораблики в бутылках.
— Они такие красивые, что за них я готова ему все простить, — сказала Изабель. — Каждый как настоящий, только крошечный. Хочется превратиться в маленького человечка и уплыть на этом кораблике далеко-далеко… Фердинанд художник, — продолжала Изабель. — Он всегда был отрешенным и непредсказуемым. Одно начинает, другое бросает, увлекающаяся натура. Но ты бы видела, какую он рисовал рекламу! Все приглашали его наперебой. Аптекари, бакалейщики, ювелиры, владельцы питейных заведений и книжных магазинов. В то время у него была своя мастерская, очень уютная, к тому же в самом центре, в районе больших универсамов. Сейчас все это в прошлом — ножовки, кисти, ведра с краской, запахи лака и опилок. Все пропало во время очередной зачистки нашей избирательной зоны. Это был конец.
Я не поняла половины из того, что услышала. Но, восстановив общую картину из разрозненных фрагментов, я сообразила, что у нее было трое или четверо детей, которые то ли все умерли, то ли разбежались. После того как Фердинанд потерял работу, Изабель подалась в мусорщики. И не в сборщики отходов, как можно было бы ожидать в ее-то возрасте, а в рециклеры. Хуже она ничего не могла придумать. Медлительная, простодушная и нерешительная, Изабель со мной согласилась, однако заметила, что эти недостатки она компенсировала другим — шестым чувством, особым нюхом, который приводил ее в нужное место. Она и сама не могла это толком объяснить, но факт остается фактом, она делала поразительные находки: сумка с кружевным бельем, подарившим ей с Фердинандом месяц безбедной жизни, совершенно целехонький саксофон, запечатанная коробка с новыми кожаными ремнями (словно вчера изготовленными, хотя последняя кожмануфактура обанкротилась лет пять назад), Ветхий Завет на рисовой бумаге, в переплете из телячьей кожи, с золотым обрезом. Впрочем, это былые заслуги, поспешила добавить Изабель, за последние полгода ее дар явно пошел на убыль. Она выдохлась, ноги стали сдавать, и сосредоточиться на работе никак не получалось. Она перестала узнавать улицы, забывала, откуда только что пришла, путала зоны и кварталы.
Читать дальше