— Уродина! — и тут же звук пощечины.
Разумеется, Егор слетал в Акдалинск и все устроил, всем заплатил, оставил денег и почти обиженно посетовал, что родители так и не захотели перебраться в Питер, когда в прошлом году он уже подыскал им квартиру в двух шагах. А теперь отец и слышать не хочет о переезде: куда ж я от Томочки тронусь! Теперь его главная мечта — лежать рядом с ней. А Юле теперь что, по три раза в год туда летать? Поэтому она не захотела взять Егора с собой: как он ни старается быть чутким, уж очень в нем сквозит практический подход — что бы ни случилось, надо минимизировать неудобства. Егор понимал, что чего-то не понимает, и не навязывался. И на ее робкое предложение обзавестись отдельными спальнями лишь поспешно закивал: конечно, конечно, как ты хочешь!
Хотя теперь ей уже ничего не угрожало, она была пустая, как выгоревшее дупло, остался только перламутровый шрам над колючей треугольной щеточкой внизу живота. Однако и она проявила рассудительность — взяла билет лишь тогда, когда уверилась, что уже не сделается отцу обузой. А он по телефону прямо-таки испуганно отмахивался: ничего ему не надо, у него все есть. Егор наврал ему, что в дни похорон Юля была в Австралии, но отец и Австралией не заинтересовался.
Завершающий удар о промерзлый бетон, последние содрогания — и она снова в Акдалинске, теперь уже в Акдале. Подзабытые в сыром Питере ясные колкие звезды, сухой морозец, ледяной стоячий автобус от трапа, чуточку менее ледяной сарай — таможня. Здесь она впервые услышала слово «тенге». Бланки таможенной декларации выдавались почему-то сразу по два, и притом за деньги, то есть за тенге. А у кого не хватало, отдавали со скидкой. Все по-семейному. И вот она на улице — в черной морозной степи.
— Такси надо? — вырастает черная фигура.
— У вас рубли ходят?
— Бегают.
Водитель русский, она уже невольно это отмечала. Помчались во тьме среди плотных обдутых сугробов.
— Ну как тут в независимом государстве? —спросила она, чтобы не молчать.
— Хорошо... Только те и остались, кому бежать некуда.
Издыхающие желтые фонари, обшарпанный желтый дом — родной дом. Забытое ощущение — слипаются ноздри. Сухонький морозец, от которого хотелось закашляться, припекал не по-европейски. И ободранность акдалинских лестниц, казалось, тоже чем-то отличалась от ободранности петербургских — известка здесь, что ли, более родная? Сердце снова зашлось: мамы нет, а дверная ручка прежняя, замок прежний… Значит, сгодится и ключ.
Замок клацнул; она замерла и прислушалась, — ей послышались звуки отцовской гармошки. Осторожно-осторожно она приоткрыла дверь — гармошка зазвучала так, что сомневаться было больше невозможно. В гостиной горел свет, и отец спиною к ней тихонько играл на гармошке, еле слышно напевая: «За быстрой рекою гуляют ребята, веселье идет на лугу, и только одна ты, одна виновата, что с ними гулять не могу», — а по экрану бежали линялые черно-белые мамины фотографии: мама-девочка с косичками перед каким-то покосившимся плетнем, мама-девушка в белом халате, мама-невеста, все такая же серьезная рядом со счастливым юным папой, которому растрепанный чуб прикрыл смеющийся глаз… Но ее проклятые глаза даже и сквозь слезы все равно не могли не видеть, что папа красавец, а мама…
— Папа, — тихонько позвала она, чтобы не напугать, но он повернулся к ней, словно того и ждал.
Его залитое слезами, беспредельно растроганное лицо казалось счастливым. Отец и дочь бросились друг к другу в объятия и зарыдали горько и облегченно. Потому что они были измучены и несчастны, но драгоценны друг для друга. Драгоценны и прекрасны.
ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ
СПУСТЯ
Господи, какой роскошью все это тогда казалось — полированная «стенка», а в ней хрусталь, на стене грузинская чеканка, а потом еще и маски из какой-нибудь Африки, где никто никогда не бывал и не побывает… И собр. соч.: Горький, Фадеев, Георгий Марков…
На месте был и ни разу не раскрытый Шоротчондро Чоттопаддхай со своим
«Шриканто». А за ним суперпрестижная Библиотека всемирной литературы, куда иной раз попадали и не самые прогрессивные писатели, нынче разбросанные в пыли по магазинам…
Люди и тогда хотели красивого и высокого. А значит, имели. Побольше, чем сейчас. Гламур будет полживее любого соцреализма.
За чаем на кухне они с папой говорили о чем угодно, чтобы только не говорить о главном, то есть ужасном.
Читать дальше





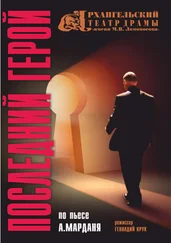


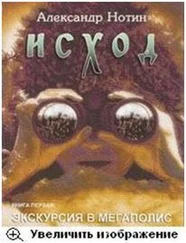

![Александр Аннин - Бабушка [журнальный вариант]](/books/428162/aleksandr-annin-babushka-zhurnalnyj-variant-thumb.webp)