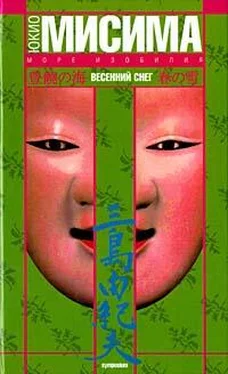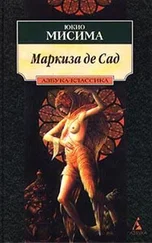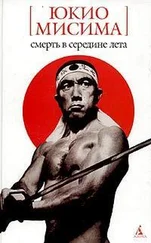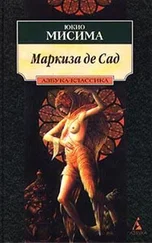Он знал все уголки тела Сатоко, которое угадывалось под кимоно. Места, где кожа начинает краснеть от смущения, где тело изящно изгибается, где заметно просвечивает сквозь кожу легкое биение, похожее на трепет крыльев пойманного лебедя. Знал, как это тело выражает радость, печаль. Все эти подробности позволяли ему в сумраке вагона узнавать под кимоно тело Сатоко, но сейчас, где-то у нее в животе, который она заботливо прикрывает рукавом, зреет нечто, ему неведомое. У девятнадцатилетнего Киёаки не хватало воображения, чтобы представить себе ребенка. Для него это было чем-то нереальным, окутанным темной массой горячей крови и плоти.
Теперь Киёаки остается только бессильно наблюдать за тем, как то единственное, что попало от него в тело Сатоко и свернулось там под именем ребенка, будет безжалостно вырвано, и их тела навсегда останутся жить каждое само по себе. Ребенком скорее был сам Киёаки. Он был совершенно обессилен, он дрожал от беспомощности, досады, одиночества, как ребенок, которого в наказание оставили дома, не взяли на веселый пикник.
Сатоко, подняв глаза, посмотрела отсутствующим взглядом в окно, на платформу. И Киёаки пронзила мысль, что в этих глазах, отражавших сумятицу, творившуюся у нее в душе, уже не оставалось места для него.
Раздался пронзительный свисток. Сатоко встала. Киёаки показалось, что она собрала все свои силы, всю решительность. Мать поспешно схватила ее за локоть.
— Поезд уже отходит. Тебе надо выходить, — Сатоко произнесла это радостно, каким-то приподнятым тоном. Киёаки был вынужден поддерживать какой-то бестолковый разговор с матерью, обычный между матерью и сыном, пожелания отъезжающей, наставления остающемуся. Киёаки уже сомневался, получится ли у него гладко сыграть весь спектакль.
Наконец он закончил с матерью, коротко попрощался с госпожой Аякура и с каким-то легким чувством повернулся к Сатоко.
— Ну, всего тебе…
Легкая пружина будто толкала его положить руку на плечо Сатоко, что он и собирался сделать. Но рука вдруг словно онемела и осталась без движения, потому что в этот момент его глаза встретились с глазами Сатоко.
Эти прекрасные огромные глаза были влажны, но вовсе не от слез, которых прежде боялся Киёаки. Слезы были изгнаны прочь. Это были глаза загнанного человека, утопающего, который просит о помощи. Киёаки бессознательно отшатнулся. Эти глаза с необычно длинными загнутыми ресницами…
— И ты, Киё, тоже будь здоров. Всего хорошего. — Тон, которым она произнесла эти слова, был безукоризненно вежлив.
Киёаки опрометью выскочил из вагона, казалось, его преследуют. Именно в этот момент начальник станции, в черной форме с пятью пуговицами и с кортиком на поясе, подал сигнал рукой, и опять послышался свисток кондуктора.
Стесняясь Ямады, который был рядом, Киёаки про себя твердил имя Сатоко. Поезд тихо вздрогнул и двинулся, похожий на нитку, которая раскручивается с мотка. Постепенно удалялись поручни площадки вагона, у которых так и не появились ни Сатоко, ни две другие женщины. По платформе потянулись клубы паровозного дыма и копоти. Разом нависли сумерки, наполненные грубым отвратительным запахом.
После приезда в Осаку утром следующего дня жена маркиза одна вышла из гостиницы, дошла до ближайшей почты и отправила телеграмму. Маркиз настойчиво втолковывал ей, чтобы она это сделала собственноручно.
Женщина впервые в жизни посетила почтовое отделение и совсем растерялась: она напоминала некую герцогиню, недавно ушедшую из жизни, ни разу не коснувшись денег, потому что считала их грязными. Госпожа Мацугаэ все-таки как-то ухитрилась отправить телеграмму кодом, о котором они условились с мужем: "Встреча прошла благополучно".
Теперь она по-настоящему осознала, что это значит — сбросить с плеч ношу. Сразу вернувшись в гостиницу, она собрала вещи и, провожаемая супругой Аякуры, села в поезд, стремясь поскорее вернуться в Токио. Чтобы проводить жену маркиза, госпожа Аякура на час покинула лежавшую в больнице Сатоко.
Сатоко положили в больницу доктора Мори под вымышленным именем. Доктор настаивал на нескольких днях абсолютного покоя. Мать была все время рядом, и хотя Сатоко чувствовала себя хорошо, мать переживала, что та после операции не вымолвила ни единого слова.
В больнице внимательно следили за состоянием Сатоко, поэтому когда главный врач разрешил ей покинуть больницу, она уже могла двигаться как обычно. Тошнота прекратилась, Сатоко и телом, и душой должна была бы испытывать облегчение, но она упорно молчала.
Читать дальше