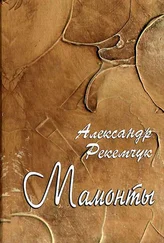Я уже представлял себе, как будет протестующе пыхтеть, как будет рассерженно морщить лоб живой классик, сокрушая мои доводы, не оставляя от них камня на камне.
Но тут дверь отворилась, и в кабинет вплыла Наташа Худякова, совмещающая в «Пике» должности секретарши, заведующей канцелярией и корректора, — а почему бы ей и не совмещать в себе всё это: вон какая толстуха, вон какая красавица, живое подобие пышнотелой нагибинской тёщи!..
— Только что звонили из Пахры, — сообщила она. — Сказали, что Юрий Маркович умер.
— То есть, как — умер?
— Да вот так. Умер.
— А — это?..
Я ошалело листал страницы лежащей передо мною рукописи.
— Ну, с утречка отправил. А потом умер.
Я продолжал моргать, глядя на Наташу. Что за бред? Что за чушь?..
В окне был яркий июньский день, полыхало солнце, раскаляя добела стены высотки, в небе — ни облака, лишь ласточки мгновенными росчерками полосуют синь. В эту пору лета, в такое время дня, поди, вообще не умирают...
— А кто звонил?
— Не знаю, не назвались. Сказали, что из Пахры. И что умер... Но это была не Алла Григорьевна, не жена.
Моя рука машинально подкрадывалась к трубке, но я отдернул ее на половине пути.
Догадался, что в таких случаях не перезванивают.
Позднее журналистка Марина Генина поведала читателям «Вечерней Москвы» о последних днях и часах Нагибина:
«...Он писал взахлеб, без отдыха. Больное сердце требовало покоя, но Юрий Маркович глотал лекарства и не отходил от письменного стола: он должен был поставить последнюю точку.
Рукопись была перепечатана на машинке за неделю до его смерти. Я вычитала ее и переслала ему на дачу — он жил там круглый год. За день до смерти Юра позвонил мне по телефону. Голос был юным, счастливым. Он только что приехал с презентации двух новых книг. Одну из них — «Тьма в конце туннеля» — страшная повесть о фашизме в России — он не мечтал увидеть при жизни. «Я не верю, что держу в руках сигнал...» Я умоляла его лечь спать. Нет! Безумно устал, но спать не пошел. Нужно было уже вслед за мной вычитать до конца «Дафниса и Хлою». Он сделал это. Поставил последнюю в жизни точку, подготовил роман к печати и уснул, очень усталый и, наверное, очень счастливый... И не проснулся. Роман о любви был закончен, и сердце его разорвалось 17 июня 1994 года».
В этом свидетельстве всё ценно и достоверно, за исключением того, что презентация книги в издательстве «Пик» произошла не за день до внезапной смерти, а за неделю до нее.
Но это уточнение существенно лишь для тех координат времени, к которым приучены мы, а он уже пребывал в другом измерении.
Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Вдова не хотела гражданской панихиды, только — отпеванье в Успенском соборе того же Новодевичьего монастыря.
Возможно, у нее были достаточные резоны для этого. Но, вместе с тем, нельзя было лишать друзей покойного писателя права сказать над его гробом слово прощания.
Я позвонил в Пахру кинорежиссеру Эльдару Рязанову, попросил уговорить Аллу. Она сдалась.
Панихида прошла в Доме кино на Васильевской улице.
Несмотря на разгар лета — самая страда кинематографических экспедиций, дачный сезон, горящие путевки, — в огромном фойе здания, под знаменитым витражем Леже, было полно народа.
Я различил в толпе Беллу Ахмадулину, Василия Аксенова, приехавшего на побывку из Америки, множество других знакомых лиц — зареванных, печальных, хмурых.
Выступал Михаил Ульянов, легендарный Егор Трубников из «Председателя». Взволнованно говорила о Нагибине Нина Соро-токина, написавшая вместе с ним сценарий забойного сериала «Гардемарины, вперед!» Я рассказал о его последней книге, которая вышла всего лишь несколько дней назад, ее практически еще никто не успел прочесть, еще никто не знал, с чем он ушел.
Над гробом зачитали телеграмму соболезнования, подписанную президентом России Борисом Ельциным.
На кладбище мы ехали вместе с Василием Аксеновым.
До этой горестной встречи мы виделись с ним три года назад, в Вашингтоне, в студии «Голоса Америки», через месяц после августовских событий 1991 года: после танков на московских улицах, мятежников с дрожащими руками, несметных толп у Белого дома, подавленного Горбачева, поваленного Дзержинского...
Тогда его взгляд, его речь, как мне показалось, были чрезмерно строги: ну, что, забегали? засуетились?., а что вы, ребята, делали, когда мы тут пахали, как негры, когда мы тут бились за вашу и нашу свободу?., нежились в своих Пицундах-Коктебелях, резвились по бабам, писали всяческую мутоту... И хоть бы кто извинился, принес покаяние! Так нет: по-прежнему шустрите, как ни в чем не бывало...
Читать дальше