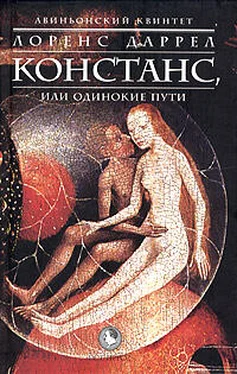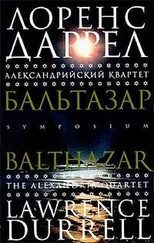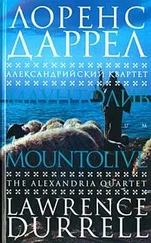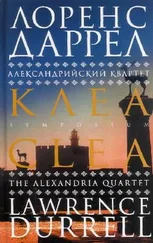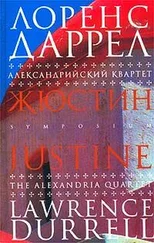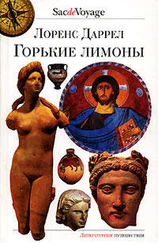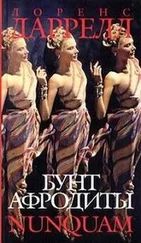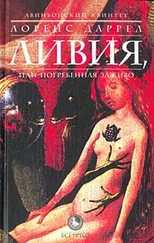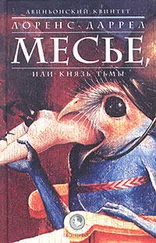— Знаешь, что мне нравится? Брать заложников! Останавливаешь автобус или поезд с рабочими. Смотришь на их физиономии и говоришь: «Мне нужен ты, и ты, и ты». — Он попытался изобразить себя самого в образе жестокого воина. Помолчал немного. — Потом я говорю: «Выходи». — Он опять помолчал, будто выжидая, когда рабочие уяснят смысл приказа. — Тут начинается. «Кто? Я? Но я ничего не сделал. Совсем ничего. Почему я?» А я говорю: «Мне известно, что ты сделал. Выходи и поторапливайся».
Он вскинул пистолет — для большей убедительности. И вдруг его лицо сморщилось, затем на нем появилась усмешка, после чего он разразился грубым и каким-то судорожным хохотом и, хлопая себя по коленке, еще долго повторял с большим удовольствием: «Кто? Я? Но я ничего не сделал». Твердил, что до смерти ему не забыть выражения их лиц, когда они это говорили. И продолжал хохотать до слез, до изнеможения. После полуночи веселье стало стихать. Но тут молодой эсесовец решил изобразить русских — как они швыряют в камин пустые бокалы. Но нашлось всего несколько человек, пожелавших последовать его примеру; эта выходка повергла всех в задумчивость. Мысль о том, что на данном этапе войны подобная шутка не совсем уместна, Фишера не смутила, и он с готовностью избавился от двух пивных кружек, но тут кто-то схватил его за плечо и уговорил прекратить это пьяное безумство. Когда компания решила наконец разойтись, вид у него был измученный и мрачный.
Так все распрощались с фон Эсслином — с его невыносимым аристократизмом и леденящим высокомерием. Естественно, его имени никто не называл, да и сам факт переезда не обсуждался. Только интеллектуал Смиргел сохранял спокойствие и не очень охотно участвовал в этой попойке, но изредка выдавливал из себя улыбку, как бы говоря, что он не против такого молодечества.
Остаться одной вот так вдруг совсем не просто, остаться одной в городе, который стал совсем другим, — ничуть не походил на солнечно-золотистый разнеженный Авиньон того лета. Зимний ветер, кружащиеся листья, бурлящая река у крепостных стен — все это придавало городу совсем иной облик, но именно с этим незнакомым городом ей теперь предстояло остаться один на один. Правда, она сама жаждала этого, сама настояла на одиночестве — и не отрекалась от него, потому что оно было ей необходимо. Все же после отъезда принца Хассада начались сумерки, зимние сумерки, населенные немцами, началась нелегкая жизнь с бытовыми трудностями и комендантским часом, которую немцы принесли с собой; жизнь с продуктовыми карточками и приказами, ограничивавшими передвижение, — все это мешало нормально работать, вызывало апатию и раздражение. Люди постоянно недоедали и мерзли. Продуктов не хватало, а если и были, то их надо было припрятывать, чтобы не отобрали немцы. Вот тут-то Констанс научилась и настойчивости и дипломатичности — да и ее знание немецкого языка помогало ей в бесчисленных препирательствах с офицерами службы снабжения или с мелкими чиновниками, старавшимися понравиться немецким начальникам. Некоторое время она даже взывала к Петэну, рассчитывая получить хоть какую-то независимость, однако образ старого маршала быстро тускнел на фоне насильственной депортации евреев и облав на потенциальных рабочих для немецкой военной промышленности, ибо у него не было почти никакой власти, и в обществе росло раздражение — из-за бесконечного его кривляния, из-за наглого злоупотребления доверием людей, а неудовольствие вскоре непременно должно было перерасти в отчаяние. Так и должно было случиться, как только люди поняли, что их хваленая независимость от немцев — пустые слова. Как ни странно, чувство стыда лишь усилило ненависть к англичанам, которые, в отличие от французов, отказались от всяких компромиссов с фашистами. Кроме того, люди и сами побаивались устраивать инциденты здесь, в «свободной зоне», из-за которых могли бы пострадать все — ответные меры немцев были скорыми и не очень избирательными. Ну а рассердить их ничего не стоило. За один случайный выстрел из автомата они могли — и часто именно так и поступали — уничтожить всю деревню. Кроваво-красные объявления были очень простыми: «Германское верховное командование ведет беспощадную борьбу с franc-tireurs. Их ждет жестокое наказание».
Переезд Констанс назначила на воскресенье и пригласила в помощницы Нэнси Квиминал. Если у Констанс и были страхи или опасения насчет того, что в Ту-Герц ей будет очень одиноко, то они мгновенно рассеялись — с такой радостью ее приняли Блэз и его жена, не считая их троих детей. Весь дом был вымыт и вычищен снизу доверху, в небольшом камине уютно потрескивала виноградная лоза, блики пламени играли на медной посуде, которой были увешаны стены, — эта batterie de cuisine [148] Кухонная батарея (фр.) .
могла пригодиться для приема гостей когда-нибудь в будущем. Посуда, скатерти, простыни и одеяла — все было заботливо сохранено женой Блэза, и теперь Констанс просто диву давалась, как преобразился ее дом. Снаружи стояла канистра с керосином, который наливали в маленькие уютные лампы. Констанс вся дрожала, когда садилась за вымытый стол, не сводя взгляда с огня и чувствуя, как наливаются румянцем ее щеки в тепле кухни. Бессвязные мысли о Сэме мешали ей успокоиться, и хотя Квиминал чувствовала ее волнение — она держала ее за руку, — его причины оставались для нее загадкой. А все дело было в тайной боли из-за невидимого Сэма — это он когда-то чистил газетой маленькие лампы и аккуратно ставил их в буфет до следующего лета — они все упрямо считали, что оно настанет. Блэз отыскал припрятанную бутылку вина, довольно крепкого, и все выпили по бокалу за «успех дома». Это было чудесно — прыгающий огонь, запах еды (a ragout), которую готовили на старой, топящейся углем плите, детский гомон… все это, так казалось Констанс, было добрым знаком. Работать и есть она будет в кухне, из большой, похожей на сарай буфетной сделает гардеробную, спать будет в своей прежней спальне — в той самой, что она делила с Сэмом, так как эта спальня не продувалась северным ветром. В хорошую погоду можно спать в оранжерее, которая, несмотря на частые перебои с водой, вся была густо оплетена свежими побегами роз, защищавшими ее от солнечного света, — казалось, будто ты на дне какого-то пруда. Там же, как на якоре, стоял старый диван, дожидаясь лучших времен.
Читать дальше