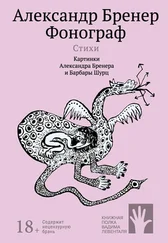Или я представлял себе художника по-китайски: как маленького тихого человечка, с куском бумаги, кистью и бутылочкой туши, который уходит ранним утром из населённого пункта — как можно дальше, чтобы не слышать ни лай собак, ни скрип телег, — и удаляется, растворяется в холмистом пейзаже, а потом вдруг обретается у подножия зелёной каменистой горы, и двумя-тремя ударами кисти ухитряется передать всю красоту, всю сущность этой чудесной горы, а заодно и бездонного неба вокруг, так что кузнечики, жуки и бабочки слетаются и сбегаются, чтобы посмотреть на эти невиданные пятна и линии, а художник всё улыбается, улыбается, и смотрит на гору, на небо, на бабочку, и забывает вдруг о себе и своей работе, и отдаётся чистому и бескорыстному созерцанию, и сам становится этой бабочкой, и улетает на хрупких крыльях неизвестно куда, неизвестно зачем…
Однако ничего из всего этого я не нашёл на собраниях стерлиговцев, и потому я в скором времени перестал их посещать.
В ленинградском пединституте имени Герцена слушал я взволнованные, но строгие речи С. С. Аверинцева.
Великий филолог ронял, как сладчайшие ягоды, как капли живой воды имена русских поэтов: Вячеслав Иванов, Блок, Ходасевич, Цветаева, Кузмин, Мандельштам…
Аудитория была полна: то ли пять тысяч паломников, взалкавших в пустыне, то ли публика, пришедшая дышать одним воздухом со своим кумиром…
Но он знал, что делает: у него были две рыбы и пять хлебов, как когда-то у его возлюбленного равви, и он мог напитать ими всех.
И он ими не злоупотреблял, не кудесничал.
Он знал — он монах, а не волхв, не пророк, не учитель.
Для меня это имя — Сергей Сергеевич Аверинцев — звучит совершенно как удар ночного камешка в окно: проснись!
Ещё это имя — Сергей Сергеевич Аверинцев — звучит для меня как строгое напоминанье: не трепли языком своим зря!
А я много болтаю во сне — и много сплю наяву.
Речь Сергея Аверинцева была совершеннейшим акробатическим актом: балансированием между Пафосом и Логосом, пробежкой по тончайшей проволоке Этоса.
И можно было видеть, какие он делает, произнося слова, усилия, как он встречает сопротивление воздуха. Воздух ведь устал от вечных слов, слов, слов человеческих. Воздух, как Феликс Фенеон или исихасты, хочет умного безмолвия. Воздух ведает, что радость и мудрость не в глаголах умножающихся, а в тишине и дуновении ветерка. Но в случае С. С. Аверинцева можно было следить не только за его словами и смыслами, но и за самим дыханием.
Его источник был: Иисус Христос, Слово, происшедшее из молчания…
А послушайте вы людей сейчас: что за клёкот стоит, что за кудахтанье, что за речитативы, сопровождаемые скрежетом зубовным, что за памятозлобие в каждом словечке, и куда подевались все смыслы и ритмы, да и слова превратились вдруг в ошмётки и огрызки какие-то…
А он, Аверинцев, владел искусством риторики, как, впрочем, и искусством понимания того, о чём он так искусно говорил.
И помимо всего прочего он был существом нездешней нежности.
А вокруг царила ох какая грубость, хамство и маета, и морок, и порывы, никнущие втуне, да немощь без всякой меры, да конфуз без предела, да срам и стыд, занавесивший лица, да усталость, да злоба.
А он говорил в лицо всему этому — нужные и нежные здравые вещи.
Рыцарем ясным в доспехах блестящих и обнажённой бесстрашною девой Сергей Аверинцев был.
Доспехи его назывались — мысль.
В сердце своём, под доспехами, был он — чистая дева.
Никогда я не видывал — и вряд ли увижу — столь нежного к другим и столь строгого к себе существа.
И таких умных людей тоже уже не бывает.
Но как сказал Жиль Делёз, ум — слишком мало.
Мысль — вот что необходимо.
Мысль — как у Агамбена. Или как у Шаламова.
И тогда, в Ленинграде, я увидел: мыслящий тростник — вот он.
Мысль Аверинцева была совершенно особенной — женственно-нежной, хрупкой, интонационной. И одновременно — твёрдой и ясной.
Возможно, он был последним из русских — тех русских, что дали Рублёва, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Хлебникова, Мандельштама, Шаламова и Тарковского.
Эти русские мыслили не головой, а всем своим тростниковым телом — колеблющимся, сгибающимся…
Ибо ветры вокруг них дули страшные!
Но они мыслили, колебались, снова мыслили…
Они не дали каких-то новых идей или концептов — они были мыслящей плотью.
Я помню, как говорил Аверинцев: «Авангардисты? Но они ведь всё сдали».
Я помню, как произнёс он: «Ходасевич? Он был слишком разумен».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу