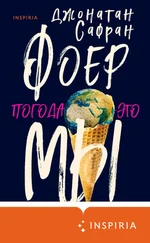Ей хотелось что-то в себе обнажить, но что и насколько?
— Что? — спросил Марк.
— Не знаю, зачем я тебя спрашиваю.
— Я не расслышал, что ты спросила, — сказал он, подступая поближе, может быть, чтобы лучше слышать.
Она перепробовала все: соковую диету, поэтические запои, вязание, писание писем от руки людям, с которыми прервался контакт, моменты полной искренности, которые они друг другу обещали в Пенсильвании шестнадцать лет назад. С десяток раз она пыталась медитировать, но неизменно сбивалась, когда надо было "вспомнить свое тело". Она понимала, что от нее требуется, но не могла и не хотела это выполнить.
Она сделала шаг навстречу Марку, приближаясь, может быть, затем, чтобы ее слова были лучше слышны.
Но теперь, и без всяких усилий, она вспомнила свое тело. Вспомнила свои груди, которых чужие мужчины не видели, не вожделели со времен ее молодости. Вспомнила их тяжесть: они, как медленно опускающиеся к земле гири, дающие ход ее биологическим часам. Они появились слишком рано, но росли слишком медленно, и ее единственный за годы колледжа парень, чей день рождения она до сих пор помнила, называл их "платоническими". Во время месячных груди становились такими чувствительными, что, когда она расхаживала по дому, приходилось их придерживать. Еще годы после того, как его выключили в последний раз, Джулии иной раз еще слышался астматический хрип электрического молокоотсоса. Она узнала свои груди лучше и ближе, когда появились причины за них бояться, но в последние три года неизменно отводила взгляд, когда их зажимали между платформами маммографа — всякий раз техник, которого ни о чем не спрашивали, сообщал: облучения во время процедуры получаешь меньше, чем во время трансатлантического перелета. Полетев на свой сорок первый день рождения с Джейкобом в Париж, она представляла, как дети выискивают в небе их самолет, а ее груди рдеют, будто радиоактивные сигнальные огни.
Чего же ей хотелось?
Ей хотелось обнажить все.
Ей хотелось чего-то невозможного, такого, что, осуществившись, уничтожит ее самое. И тут она поняла Джейкоба. Она поверила ему, когда он сказал, что те слова были только слова, но не поняла его. А теперь понимала: ему нужно было сунуть руку в дверь. Но закрывать дверь, дробя свои пальцы, он не собирался.
— Мне надо домой, — сказала она.
Ей нужно было что-то невозможное, такое, что, осуществившись, спасло бы ее.
— Ты пришла, чтобы это сказать?
Джулия кивнула.
Марк стоял прямо и как будто стал выше, чем был прежде.
— Я так понял, что ты куда-то движешься сейчас, — сказал он. — Никто лучше меня не просекает такое. И я действительно рад стать привалом, где ты можешь вытянуть ноги, заправить бак и облегчиться.
— Пожалуйста, не сердись, — сказала она как-то по-девчоночьи.
Она вся горела от страха — что Марк злится, что злится справедливо, что она в конце концов будет наказана за дело. Еще простительно допустить, чтобы детям было больно, но нет такого наказания, которое было бы достаточным тому, кто сам, понимая это, причиняет боль своим детям. Ведь она принялась уничтожать собственную семью — намеренно, а не потому, что иначе нельзя. Собралась выбрать отсутствие выбора.
— Надеюсь, я сильно помог тебе вырасти, — продолжал Марк, уже не стараясь спрятать обиду. — Да. Надеюсь, ты со мной научилась чему-то и потом используешь это с кем-нибудь другим. Но могу ли я безвозмездно предложить небольшой совет?
— Мне надо уже идти, — повторила Джулия, до смерти боясь того, что сейчас скажет Марк и что его слова станут какой-то магической карой для нее и убьют ее детей.
— Не в тебе проблема, Джулия, — проблема в твоей жизни.
Доброжелательность оказалась еще хуже того, что так пугало Джулию.
Марк отворил дверь.
— А это я говорю только ради твоего и своего покоя: знай, что в следующий раз, когда увижу на экране твое лицо, я даже не подойду посмотреть, как ты ждешь.
— Мне надо домой, — сказала она.
— Удачи дома, — сказал он.
Джулия вышла.
Она взяла такси до отеля, реконструкцию которого ее недавно пригласили курировать.
Там была карикатурно огромная и противоестественно симметричная цветочная композиция, и прямо над ней висела хрустальная люстра в сто тысяч подвесок.
Коридорный сказал что-то в наладонный микрофон, провод которого уходил ему в рукав и спускался сбоку к передатчику, прикрепленному на поясе, — наверное, можно было придумать связь и поудобнее.
И портье, который почти мог бы быть Сэмом через пятнадцать лет, но с безупречной левой рукой, спросил:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу









![Джонатан Фоер - Погода – это мы [litres]](/books/384453/dzhonatan-foer-pogoda-eto-my-litres-thumb.webp)