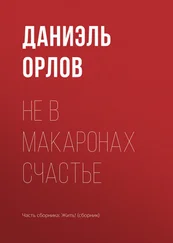— Какую, — спрашиваю, — тебе рубашку?
— Ночную, — говорит.
И смеётся. Тянет руку и смеётся. И душ шумит. И Radiohead что-то истерическое по телеящику завывает. И огоньки машин внизу. И сам пьян уже изрядно. Ну как тут удержаться? Родственница чёртова…
Потом лежали в постели. А мне вдруг стыдно стало. Что позвонил — стыдно, что пригласил — стыдно, что быстро всё получилось — стыдно.
— Знаешь, — говорю, — В Петропавловке есть моя скамейка.
— Твоя?
— Погоди. Не перебивай. Рядом урна, в которую окурки кидать удобно.
— И бутылки пустые?
— И бутылки. А над головой ветки сирени. Представляешь, так удачно скамейка расположена, что на ней никому сидеть не хочется.
— Почему?
— Взгляд в стену упирается, а всё самое красивое где-то сзади и слева. Почти всегда свободна.
— И летом?
— И летом. Летом, кстати, у нас туристов из Купчино и Веселого посёлка поровну с туристами из Неаполя и Москвы.
— На Москву не наезжай. Это мой город.
— Я не наезжаю. Так вот, однажды освободился пораньше, машину у дома бросил, взял с собой что-то такое не до конца прочитанное и туда. А на скамейке семья из десяти вьетнамцев. Все маленькие, на ласточек похожи. Уместились рядком, головками крутят, чирикают что-то. И такие они трогательные, такие мультяшные.
— И что?
— Ничего. Подмигнул им и мимо прошёл.
— И что?
— Ничего. Ты представь.
— Что, Игорёша?
— Представь… Десять маленьких вьетнамцев на белой парковой скамейке.
Летом приехала. По белым ночам её водил. Мосты разводили, вино из пластиковых стаканчиков на набережной, пицца в плавучем ресторанчике, суп гаспачо. Светке, что характерно, о своём визите не слова. Партизанка.
Я её в Пулково встретил, в джип свой посадил, домой отвёз. Дверь в квартиру открыли, а там соседка. И не спится же ей в половину первого! Стоит, суп в кастрюле моим половником размешивает. За собственным лениво в шкаф забраться. Мой удобнее, на крючке над плитой висит. Глазом зыркнула, отвернулась, халатик запахнула.
— Здрасте. Я Маша. Я приехала к любимому мужчине.
— Добрый вечер, — сухо так.
— Можно, я у вас тут поживу три дня и три ночи?
— Живите, если хозяин позволяет, — и опять в суп уткнулась.
Вонь от того супа рыбная, неаппетитная.
В комнату провёл, свет включил, чемодан поставил. И до утра… Прямо на диване неразложенном… Как в детстве, честное слово. Но хороша, мерзавка. Безумная, страстная, жестокая даже. Но такое каждому мужику на день рождения пожелать можно.
В промежутке вышел на кухню чайник поставить. Соседка сидит, курит.
— На малолеток переключился?
— Завидно?
— Смотри триппер не подхвати.
— Суп не сожги. Уже палёным пахнет.
— Довыёбываешься. Женит на себе, потом будешь на стенки прыгать, когда нового и молоденького найдёт. Комнаты делить начнёте. Ты себе ту, что к кухне ближе, оставь. Она получше будет.
Завидует, что ли. Хрен её разберёт. Она вообще женщина странная, с причудами да с запоями.
В понедельник Машка не уехала. Пока я на работе торчал, сходила и билет поменяла. Ещё на две ночи осталась. А я что? Мне хорошо, хотя стрёмно, конечно. Вроде родственница, племянница бывшая. Инцест сплошной, но приятный такой, сладкий.
Ирка у меня появилась, так она ещё звонила. Но я сразу, мол, извини, радость моя, но тут личная жизнь складывается, не до тебя. Та в слёзы. Плакала в трубку. Несколько раз в месяц звонила и всякий раз плакала. Потом перестала, вроде поняла, что всё — значит всё. На двадцать третье февраля заявилась. Но это уже позже. И молодчинка такая, как зайка себя вела. Ирке понравилась.
…Вон, пришла из магазина. Очередную коробку с вином принесла. Ну что с ней поделать? Говорил же, что не надо, мне от этого сухача пакетного тоска по желудку и тягость в членах. Как не слышит. Лёху обняла, стоит пятками в воде, Леха на лодке рядом на локоть облокотился. Обнимаются. Доведёт мужика до дурости. Ну, положа руку на сердце, скажу, что смотрятся великолепно. Подходят друг дружке — оба с придурью. Только Лёха он родной, он свой до волосков вокруг лысины, я за него сдохнуть могу. А за Машку? А за Машку не могу сдохнуть, но сдох бы, если бы вместе с ней были. Чёрт! А может, это и была моя судьба? Так усиленно её мне кто-то там сверху подпихивал: на, Игорёчек, тебе радость на всю жизнь твою длинную, за всё несчастье и беду твою подарок. Не понял или не расслышал, или слушать не захотел. Или расслышал, да испугался — спасовал. Теперь рефлексии и ревность. Дурак. Другу хорошо, что ещё надо?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу