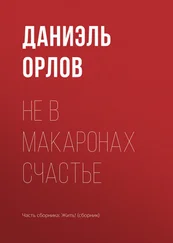После третьего класса уже миграция по кабинетам. Школа большая, кроме поселковых ещё и гарнизонные в ней учились. На каждую дисциплину кабинет. Портреты Лейбница, Чебышева и Лобачевского в кабинете математики. Портреты Чехова, Горького, Толстого в кабинете литературы. Беленсгаузен, Крузенштерн, Марко Поло в кабинете географии. Сидишь на контрольной, решаешь задачу и смотришь на Декарта. У того такие букли, усишки кривые, бородёнка тонкая полоской, как у кардинала Ришелье в книжке про мушкетёров. Весь какой-то лукавый, неуютный. Чебышев симпатичнее. Бородища у него, что у Толстого. Мы думали, они братья. А самый приятный — Лобачевский. У него воротничок «стоечка». Явно, что неудобный. И самому ему вроде как неудобно, что насочинял он всякой математики, а нам теперь её разбирать-проходить.
Мне математика не нравилась. Мне ботаника нравилась, биология, химия, география, ну, и пение немного. Учительницу пения звали «Пеша». Наверное, её звали как-то иначе, но я уже не помню. Помню, что Пеша. Вечно на её уроках бедлам устраивали. Там тоже проигрыватель стоял. Но другой, хороший, почти как у нас дома — «Вега». Она ставила нам музыку классическую, что-то про композиторов рассказывала, только никто же не слушал. В морской бой дулись или ещё во что. А когда песни пели, то тут все горланили как могли. Громко, немузыкально, зло. Она не обижалась. Привыкла. Это с первоклашками легко. Первоклашки старших уважают, да и петь любят. Мы в первом классе разучивали дурацкую песню про какого-то Каде Русселя:
«Каде Руссель богато жил
Домик без крыши он купил».
И что-то дальше про этого удивительного человека, который сшил себе кафтан из бумаги:
«В дождь и мороз, ступая важно
Носит кафтан он свой бумажный».
Мне это нравилось. И ещё про чибиса нравилось. Но про чибиса казалось излишне жалостливо. Я представлял себе этого чибиса — мокрый комок с коричневыми перьями и длинным клювом. Сидит этот чибис и волнуется. А там ещё такие же чибисята.
Когда меня после первого класса, на лето, сослали на Северный Кавказ, я бабушке с дедушкой и про чибиса пел, и про Каде Русселя. Каде Руссель имел особый успех. На него даже соседей приглашали. Или на меня. Дед мной гордился. В тот лето удочки подарил.
Потом старики ушли. Один за другим. Вначале дед. Он уже давно в отставке был — генерал-лейтенант. Скучал без дела. Последние лет пятнадцать в лётном училище консультировал. Как-то по весне заболел пневмонией и сгорел за три дня. Восемьдесят только исполнилось. А следом и бабушка. Только на год его пережила. Села перед телевизором штопать что-то, да и умерла. Соседка нашла. У неё ключи от квартиры были, на всякий случай. Пришла утром, а бабушка как спит в кресле. Долго квартира стояла пустой, пока однажды я не приехал и не продал её. Продал вместе с так и не выветрившимся за десять лет запахом лекарств, приправы и молотого кофе. Вместе со скрипами рассохшегося паркета: золотого от падающего на него из маленьких окон солнца. Вместе с цветочными горшками на балконе, выходящем в сад. Вместе с банками на антресолях. С банками, в которые каждый год бабушка закатывала сливовый компот, лечо и вишневое варенье. Закатывала, чтобы посылать нам. Вначале в Амдерму, потом в Ленинград на адрес другой моей бабушки: чтобы не в общежитие, чтобы дошло. Тяжёлые фанерные ящики с банками, пересыпанными гречневой крупой. Дед презирал каталки и носил их в руках до почты. Сам. А теперь я продавал квартиру, где оставалось много-много банок на антресолях. Продавал, потому что уже другой был, не тот, что в детстве.
Пока молодой, есть ещё надежда, что уж тебе-то удастся скроить жизнь под себя, встать в самый его угол, в начало координат. И даже находишь этот угол и встаёшь в него, и врастаешь уверенно, всеми своими этажами. И начинаешь жить от мозга к печени, день ко дню. Пока не выходишь однажды на чердак, чтобы поправить антенну, и не видишь, что сзади и сбоку, где раньше лес и пустыри, теперь магазины и гаражи. И ты не на краю, не в углу, а в самой середине безликого спального района. И размножаешься делением, и идёшь на свист, и жрёшь всякую гадость, и вообще это уже давно не ты. Начинаешь искать себя, звонить друзьям, спрашивать, как давно они тебя видели. Говоришь, что волнуешься, думаешь, что могло с тобой случиться что-то нехорошее, потому что ты давно не видел сам себя. И нарываешься на смех. Нарываешься на приглашение выпить или предложение выспаться. И сидишь вечерами в кухне, зажегши конфорку под алюминиевой кастрюлей со вчерашним рыбным супом из консервированной сайры, и вспоминаешь свои приметы. И не можешь вспомнить ничего, кроме того, что молодой, честный, с горящим взором, с хорошей улыбкой (да-да, у него были прекрасные зубы), с густыми волосами и чистой совестью. И записываешь эти приметы на листок, приносишь в отделение милиции и просишь-просишь-просишь, чтобы они посмотрели по своей базе, всё ли хорошо. И называешь год рождения. И место рождения называешь. Получаешь в руки адрес, едешь, звонишь в дверь, стучишь, плачешь, кричишь, что всё равно знаешь, что «ты там», пока соседка не выходит на лестничную площадку, не вынимает у тебя из кармана ключи, не открывает дверь и не ведёт тебя на кухню. На ту самую, где ещё вчера ты грел свой рыбный суп.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу