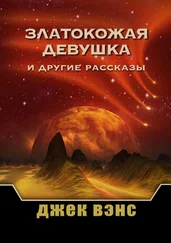У них, как правило, плохо запоминающиеся лица: траченные пьянством, грязные и небритые, с сизым портвейнным отсветом.
Он сидел на покосившемся фруктовом ящике и играл с нашими собаками.
Надо бы нам было умилиться, как в старину умиляться умели: вот, дескать, человек, до последних пределов опустившийся, уже и не человек почти, а вот поди ж ты, играет с собачками… Стало быть, есть еще в нем светлая струна, тронув которую… и т. д.
А жена моя — вдруг обомлела от внезапного страха.
— Ты посмотри! — шепнула она в ужасе. — Что он делает!
Он их гладил.
Он их жадно оглаживал, и было что-то неприятное в том, как он это делал, как щупал бока, загривки, как постоянно заглядывал в свои ладони и ликовал, не обнаруживая там линяющего подшерстка:
— Ах, хороши собачки!
Он повернул к нам лицо, в котором все было нечисто — и кожа, и глаза, и губы, — и улыбнулся, как соучастникам, беззубой улыбкой ласкового гаденыша.
— Какие шапочки получатся!.. Ваши собачки?
Он видел, что это наши собачки. И наш испуг видел. Потому-то и продолжал гладить, и скубать за шкуру то Джека, то Братишку. А они, веселые дурачки, так и вертели вокруг него хвостами!
Особенную гадливость вызывали его озябшие руки. Лиловые, они далеко и жалостно высовывались из коротеньких рукавов пальтеца, и было противно, что он греет их в шкуре наших собак — эти пухлые от пьянства, покрытые золотисто-гнойным налетом цыпок руки уже давно не рабочего человека, руки прихлебателя и лодыря.
— Вы за ними в оба глядите! — посоветовал он и снова улыбнулся, показав корешки желто-черных выбитых передних зубов. — Народ-то нынче, знаете, какой? И на шапочку обдерут за милую душу… и на шашлычок переделают — очень уж они у вас жирненькие. Ну, иди, иди сюда, шашлычок ты этакий… — и он схватил вдруг Джека по-новому, нагло и цепко.
— Тебя самого, гада, на шашлык! — Жена в испуге схватилась за мой рукав. — Джек! Братишка!
Собаки без всякого сожаления оставили бича и побежали с нами.
Им, конечно же, невдомек было, о чем шла речь. Но если бы мы даже сумели растолковать им смысл нависшей над ними угрозы, они все равно, мне кажется, не поверили бы нам! Они людей любили.
Мы возвращались в молчании и тревоге. То, что нами было услышано, ощущалось как тошнота, как тягостное в чем-то разочарование, как унылый стыд за весь род человеческий.
Бич не преувеличивал. Угроза собакам была.
Я вспомнил рассказ Роберта Ивановича о том, как погиб Зуев. Он приполз к порогу дома весь в крови, с простреленным животом. Закидуха вместе с приятелем, оказавшимся в доме, бросились по кровавому следу собаки, потом по следам человека, который стрелял. Схватили. Они даже не отколотили его — решили благородно сдать в милицию. А милиция его отпустила: свидетелей преступления не было. Да и самого преступления, как выяснилось, не было: убить бродячую собаку не грех. Единственное, за что можно было покарать шкуродера, — за незаконное пользование ружьем. Но и ружья не было (тот успел выкинуть обрез в снег).
Еще мне вспомнился мужичонка в электричке, который молодцевато рассказывал своей спутнице о том, как в прошлом феврале на день Советской Армии он был приглашен соседями по лестничной клетке — молодыми парнями, братьями — на шашлычок. Как они посидели, выпили-закусили, а потом братаны с гоготом повели его смотреть на «барашка» — на останки собаки в окровавленной ванне. «Они думали, конечно, что меня тут же… того… — похвалялся мужичонка женщине. — А я им спокойненько так говорю: „Ну и что?“.
И, конечно же, опять — с тоской и досадой — вспомнил я четырехлетнюю девчушку, с которой нечаянно познакомился этим летом. Она играла со щенком. Рассказала, что зовут ее Лена, а щенка зовут Гена, в честь знаменитого крокодила. И еще она сказала, что когда Гена вырастет, папа (он обещал ей) сделает из Гены красивую шапку. „Ну, как же так можно?! — говорил я девочке. — Смотри, как он тебя любит! Ведь ты ему как мама! Он тебе верит, а ты его раз! — и на шапку…“ А она мне спокойненько этак ответила: „Ну и что?“.
Я потом часто и подолгу думал об отце этой девочки.
* * *
— …Руки опускаются! Не могу! — сказала в отчаянии жена, села к столу и заплакала, глядя в окно.
За окном в сереньких скверных сумерках уныло зяб наш поселок: придавленные слежалым снегом крыши, заколоченные окна, серые заборы.
Была середина зимы, самая ее глухая сердцевина: серые дни, серый снег, серое оцепенение.
Дни сменялись днями, а время, казалось, остановилось.
Читать дальше