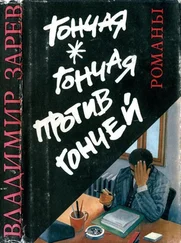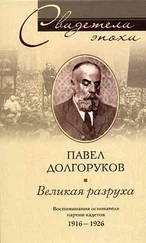— Значит, литература все-таки существует, — сказала мне она, — сейчас на книжном развале на площади Славейкова продается такая галиматья…
— Талантливые писатели всегда были и будут, — ответил я.
— Со мной действительно все в порядке, — сказала Катарина, — ты просто теряешь здесь время.
— Я ведь безработный, что мне делать со своим временем?
— Почему бы тебе не начать новый роман… или хоть попытаться?
— Я еще не готов, он еще не сложился… внутри.
— Мы ведь договорились не врать друг другу, — она наблюдала за мной через свои огромные линзы, словно делая диссекцию лягушки. — Что тебя мучит?
— Ожесточение, — серьезно ответил я. — Я смертельно ожесточился, а с таким чувством можно написать только плохую книгу.
— Тебя распирает ненависть, — она лениво рассмеялась, — ко всему, что случилось недавно?
— Скорее — ненависть к себе самому, мне трудно найти себя во всем, что происходит вокруг. Меня просто нет.
Она замолчала, привычным жестом поправила на переносице очки и неожиданно спросила:
— А с каким чувством пишут хорошую книгу?
— С грустью, — ответил я, — в беспричинной боли, в необъяснимой грусти сокрыты две трети нашего воображения.
— Разве тебе недостаточно грустно, пап?
— Все дело в том, что я еще не придумал чертово название этого романа.
В конце июля нас накрыло постоянное ожидание, мы были так напряжены, что когда я брал ее за руку, нас било током. Мы знали, что это неизбежно, что оно обязательно случится, я только боялся, что это произойдет в самый неподходящий момент. Как-то утром, когда мы брели лесной тропинкой, бегущей параллельно асфальтовой дорожке, Катарина остановилась, сняла очки, чтобы спрятаться за своей полуслепотой, и как-то лукаво шепнула:
— Я должна тебе рассказать, с кем я кололась.
— Нет, — отрезал я.
— Должна рассказать, что именно со мной произошло.
— Нет, — повторил я.
В полиэтиленовом пакете я всегда носил с собой папины ремни и сейчас зашарил взглядом в поисках подходящего дерева. Я боялся, что она будет кричать.
— Это не ломка. Если бы я разговорилась неделю тому назад, наверное, тогда бы соврала. А сейчас я это делаю не для тебя, а для себя. Учусь говорить правду.
Мы сели на обочине под одиноким дубом, и я ее обнял. Во мне накопилось столько нежности и терпения, что мы могли сидеть так до утра. Его звали Пеппи Шарк, что означает Пеппи Акула. Он постоянно вертелся у их школы, и все знали, что он торгует наркотой. И Катарина знала. Он нередко заговаривал с ней, называя «мадам» и постоянно приглашал в какую-то дурацкую мансарду, обещая ей рай. Он казался скорее робким и неухоженным, несправедливо одиноким, чем опасным. И никогда не был агрессивным. Ее поразило то, что даже в жестокий летний зной он ходил в высоких армейских ботинках, но пахло от него как-то особенно. «Не дезодорантом, не дешевым одеколоном, а чистотой», — повторила Катарина. Парень был очень красив — черноволосый, с зелеными глазами, но красота его была какая-то… рассеянная. Он не казался интеллигентным — только чистеньким. Вся грудь и спина у него были разукрашены татуировками, «он казался мне в них раненым», — сказала Катарина. Пеппи прихрамывал: одна нога была короче другой, но жалости это не вызывало, скорее смутное желание его защитить. «Однажды он проводил меня до дома, и пока шел рядом, мне показалось, я попала под гипноз, почувствовала, что засыпаю», — сказала Катарина. Перед торжествами 24 мая [22] 24 мая, день памяти свв. Кирилла и Мефодия, в Болгарии отмечается как государственный праздник — «День болгарского просвещения и культуры и славянской письменности».
Пеппи неожиданно исчез, и она поняла, что ей его не хватает. «Я не была в него влюблена, это точно, — сказала Катарина, но его отсутствие, непонятно почему, ее ужаснуло. — Я не могла ни спать, ни есть, постоянно думала о нем, о его хромоте, о грубых солдатских башмаках, о вытатуированной у него на спине акуле, а может, — она нервно сглотнула, — о том, что я снова осталась одна. Мне это трудно тебе объяснить, но с ним я чувствовала себя защищенной. Он был мне предан».
Когда после праздников она снова его увидела, подпиравшего школьный забор, Катарина сама предложила, чтобы он перенес ее в рай. Его мансарда была бедной и очень чистой, как келья в женском монастыре, на ставне сидел голубь, стены были увешаны странными картинами, исполненными боли и ужаса. «Это рисунки моих клиентов, — сказал ей Пеппи, — рисуют и дарят их мне». «Неужели тебе не страшно? — спросила Катарина, — ты ведь убиваешь людей…» «Люди смертны, — беззаботно отмахнулся он. — Наркота дает возможность самому решить, когда это должно случиться, и убивает страх». Они выкурили по сигарете с марихуаной, но удовольствия она не получила и видения ее не посетили, ее затошнило. Акула раздел ее, зашел в чуланчик и вымылся в оцинкованном тазу, потом вернулся к ней, обнаженный, оказавшись мужчиной выдающихся достоинств. И только тогда он снял с нее очки и с сожалением сказал: «Я не смогу с тобой, Кат, потому что ты не такая, как мы». «Я тебя не понимаю», — ответила она. «Ты не такая, как я, Кат, нас различает вот это», — он достал из ящика ночной тумбочки резиновую трубку, которой перетягивал вену, шприц, иглу, высыпал драгоценный порошок в ложку и стал разогревать на свече. Растаявшая жидкость закипела, запахло чем-то неизведанным, чуть пригоревшим. «Хочешь, чтобы мы нашли друг друга?» «Хромая, он сделал шаг, другой. Это вскружило мне голову. Голая, без очков, наверное, я выглядела идиотски нелепо, просто смехотворно, — сказала Катарина. — Но со мной случилось что-то неописуемое, это нельзя рассказать словами, ты чувствуешь одновременно несовместимые вещи — и муку, и потрясение, и головокружительную свободу, но главное — видишь всех и вся, ты прозреваешь и видишь все, словно глазами Бога, а уж я, с моими диоптриями…»
Читать дальше


![Иван Божерянов - Великая разруха Московского государства, 1598–1612 гг. [с иллюстрациями]](/books/34973/ivan-bozheryanov-velikaya-razruha-moskovskogo-gosudar-thumb.webp)