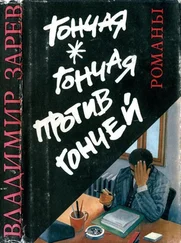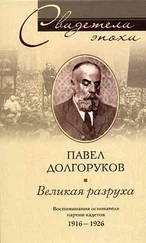— Ты что, рехнулся? Марти, я ведь просто хотел это самое… оказать внимание тебе и Веронике.
Я потянул к себе со стола листы с моими «смешинками» и вытер ими кулак и влажные ладони.
— Ни слова о моей дочери, иначе я вас всех здесь передушу!
Наверное, они тоже отобедали супом с фрикадельками в той же закусочной, с острыми перчиками и толстыми ломтями хлеба, но я действительно был готов их всех уничтожить. — «Катюша… господи, Катюша», — стучало у меня в мозгу, бессмысленные, пустые слова, не объясняющие мою ярость… все в точности, как на похоронах мамы.
Я развернулся и вышел вон. И лишь в коридоре, вдохнув запах типографской краски и только что вымытого мозаичного пола, вспомнил, что бежать мне некуда.
Сейчас я почувствовал ту же слабость — до дрожи, паническое состояние и недоумение: где взять сил, чтобы вытолкнуть себя из бара Иванны, из подвала Столичной библиотеки, утратившей свое символическое значение, доползти до остановки у канала, сесть в автобус до своей «Молодости», нажать кнопку скрипящего лифта, подняться в нем на шестнадцатый этаж и, когда он остановится, выйти вон.
* * *
В аптечке не было ничего, кроме аспирина. Я проглотил две пожелтевшие таблетки, запив их тошнотворной водой из крана — вода на нашем шестнадцатом этаже летом всегда теплая, а зимой — ледяная. Голова у меня раскалывалась, тело дрожало, будто я нарубил пять кубометров дров. В девять было еще светло, я уселся у телевизора ждать Веронику, веря, что ее презрительное молчание вернет мне желание жить.
«Когда Катюшка родилась…», — мысленно сказал себе я, но сознание осталось глухо: ни одного яркого воспоминания, способного продолжить мою мысль.
Свою первую, Милу, мы назвали в честь моей матери. Чувством ответственности она пошла в Веронику, никогда и ни в чем не создала нам проблем, английскую гимназию окончила с медалью, а факультет английской филологии — с красным дипломом. Писала стихи, но перестала. Девочка выросла красоткой и на редкость интеллигентной, в мать, и это лишало ее стихи индивидуальности. Творчество — это ведь магия, высшее проявление несовершенства, а если четко следовать всем правилам, то стихи становится чьей-то обителью, забавой или утешением, но по-настоящему волнуют лишь самого автора. Мила нашла себе работу в какой-то долбаной фирме по импорту фарфора, два месяца приводила там все в порядок, ей, как водится, не заплатили, и она ушла. Сама, без чужой помощи устроилась на новый канал кабельного телевидения «Все для вас», четыре раза в неделю выходила в эфир в эзотерической программе «Жизнь после жизни», куда ее засунул шеф, прочла все, что можно, об НЛО и Ванге, о тибетском буддизме и паранормальных явлениях, разыскала для передачи множество экстрасенсов, гадалок и специалисток по картам Таро. С присущим ей упорством она сумела доказать, что материальная жизнь человека предопределена и поэтому бессмысленна. Записалась на курсы по медитации и потянула меня за собой. Приютила меня. Она заставила меня принять пустоту как дорогого, давно покинувшего меня друга.
Одним бесконечным жарким летом, вполне бессмысленным вечером Мила мне сказала:
— У меня для тебя подарок.
— Запотевшая бутылка ракии? — спросил я, не слишком веря в чудо.
— Нет, — рассмеялась она, показав два автобусных билета. — В августе лама Шри Свани проведет пхову в Сербии, где-то под Белградом. Ты едешь со мной.
Я похолодел. Окаменел.
— За такие деньги мы могли бы съездить в Созополь, — взмолился я. — В наш Созополь.
— Нет… я хочу с тобой услышать ламу Шри Свани.
— Что такое пхова? — спросил я, хоть и знал.
— Медитативная практика. В ней переживаешь свою смерть. Если научиться умирать правильно, то перестаешь бояться смерти и можешь переродиться человеком, а не в мире богов или голодных духов.
— Почему бы тебе не съездить туда с сестрой, я уже давно ходячий голодный дух…
— Тебе просто лень, — заявила она, а потом медленно и отчетливо добавила: — Папка, я тебя люблю.
Через две недели мы выехали, слава богу, в автобусе работал кондиционер. Я дремал или смотрел в окно, вздрагивая от холода. На каждой остановке у придорожных кафешек нырял в туалет, доставал из дорожной сумки бутылку теплой «Пештерской» ракии и отпивал три скупых глотка. Мила делала вид, что ничего не замечает, знала, что я человек неистовый, и понимала, что боюсь. Не смерти — все еще не ее, боюсь самого себя. На место мы прибыли часов в девять вечера, когда еще не стемнело. В озере играла рыба, по небу летели стаи птиц, снижаясь, чтобы напиться, в воздухе витал приторный запах болота, горящего костра и цыганского табора. Я прилег в укромном уголке и уснул, перелив в себя остатки ракии. Ничто не вызывает более острого чувства одиночества, чем пустая бутылка. Я смежил веки, всеми брошенный и забытый.
Читать дальше


![Иван Божерянов - Великая разруха Московского государства, 1598–1612 гг. [с иллюстрациями]](/books/34973/ivan-bozheryanov-velikaya-razruha-moskovskogo-gosudar-thumb.webp)