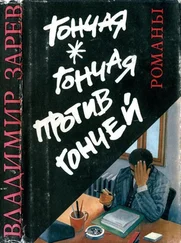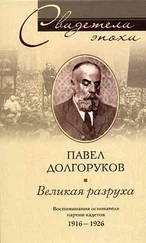— Вы только послушайте, послушайте… кто бы мог себе представить… приговор Трайчо Костову был предварительно написан. Не предрешен, а юридически сформулирован в Москве, за месяц до его ареста здесь, в Софии. А?
— Мать его за ногу… русские всегда нас ставили раком, — ответил беллетрист Пимпирев, сотворивший в свое время заказную книгу о болгарском космонавте Георгии Иванове, полетевшем на каком-то из «Союзов», гордо состыковавшемся с сияющей станцией «Мир» и навсегда закрепившем болгаро-советскую дружбу. На самом деле, когда Георгий Иванов стартовал в безразличный всем видам дружбы космос, опус Пимпирева уже был выброшен в продажу на прилавки книжных магазинов. В этом «документальном» шедевре оказалось описанным так и не случившееся: тому многострадальному «Союзу» так и не удалось состыковаться с непревзойденным «Миром». Тихомолком, в одну ночь его верноподданная ода была изъята из книжных магазинов, а затем тайно уничтожена. Но Пимпиреву дали «Заслуженного деятеля культуры», а спустя два года, за очередной лицемерный опус, и Димитровскую премию.
— И Горбачев нас предал… — соглашался Аргиров, а как мы надеялись на него, думали, что он отмечен самой судьбой. Его родимое пятно на лбу — мы ведь думали, что это — печать святости, помните?
— Мать его… медведица… Сорок пять лет выкручивать руки этим народам, я хочу сказать, социалистическим… — Пимпирев отхлебнул глоток чая, глаза у него слезились, наверное, от сигаретного дыма, — внедрять не идеи, нет, а свой увечный социализм, а потом… потом Мальта… и предать всех, никого не спросив. Да кто ты такой, мать твою…
— Перед тем, как разрушили Берлинскую стену, — подхватывает Аргиров, — шеф восточногерманской разведки, Маркус Вольф, написал Горби письмо. Просил его сделать что-нибудь для кадровых восточногерманских разведчиков, работавших — бесплатно и беззаветно, идеалов ради, на Советский Союз. Горбачев ему даже не ответил. И что это, если не цинизм?
— Я тоже думаю, что это цинизм, но их разговор, который продлится часов до шести, не меньше, когда на улице уже повеет утешительной прохладой, меня не интересует. Я с наслаждением допиваю свой первый джин, у меня есть деньги и на второй, мне интересно, как Станойчев заставит этих кастрированных олухов поставить ему выпивку. Ведь за вечером идет ночь — жаркая, долгая и пустая. Он помнит перечень своих любовных побед по съемным квартирам, в которых когда-то жил. С тех пор, как он переселился из родного Перника в Софию, Станойчев сменил сорок три квартиры, так что какая-нибудь пикантная история непременно поразит воображение этих «талибов». Они и есть талибы, определение принадлежит ему, что понятно, ведь Станойчев — писатель.
— Я был студентом-третьекурсником, изучал филологию, — Станойчев кивает в мою сторону (мы с ним однокурсники), и я утвердительно киваю в ответ. — Меня только что выставили с квартиры на улице Кракры Пернишкого, хозяин застукал меня со своей женой и вышвырнул на улицу, как шелудивого кота. В то время не было газетных реклам, не было нормальных газет, не было демократии — чистый Оруэлл, братья, — обращение «братья» должно было подсказать «талибам», что он великодушно считает их ровней. — Реклам не было, но в те безумные годы меня спасала невероятная, до извращения мощная интуиция. Из расклеенных на доске у студенческой столовой объявлений о сдаче квартир меня тут же привлекло самое короткое — просто вытолкнуло меня в направлении Солунской улицы (которая тогда называлась совсем иначе). Комната в квартире хозяев мне подходила — ее сдавали за двадцать левов в месяц, а квартира находилась в самом центре, рядом с Союзом писателей, я испытал чувство, будто буду жить в самом Союзе писателей, представляете? Надеваю я, значит, белую рубашку, будто только что дописал свой роман, надраиваю до блеска узконосые шузы, по «Мамбо» — это венгерский магнитофон с зеленым мигающим глазом — слушаю для поднятия духа Битлов… нет больше Битлов, нет и иллюзий, братья. Помню, что когда шел к Солунской — я уже говорил, что тогда она называлась иначе, — задумал новый рассказ. Значит, прихожу я весь такой самоуглубленный, весь в себе, во всем своем блеске, а она — не кто-нибудь, а дочь хозяина — открывает мне двери. Ах, что за попка! Просто путь на Голгофу!.. Высокая, крутая, сплошные тернии обстоятельств, молитва о смысле жизни. И зовут девушку Правда. Зеленоглазая девственная Правда, но вот отец у нее… полковник. Мной тут же овладели все бесы.
Читать дальше


![Иван Божерянов - Великая разруха Московского государства, 1598–1612 гг. [с иллюстрациями]](/books/34973/ivan-bozheryanov-velikaya-razruha-moskovskogo-gosudar-thumb.webp)