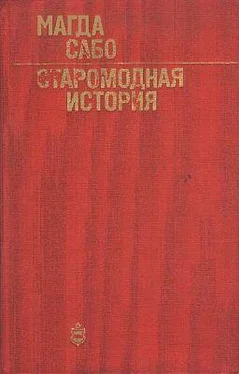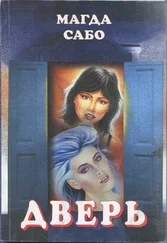И в какой-то неуловимый момент матушка вдруг была уже со мной. Она явилась, как всегда, не неким обособленным от меня видением, а во мне, как внутренний голос, и, смеясь, произнесла: «Каролина Герхардингер».
Ей пришлось повторить это несколько раз: я ее не понимала.
«Каролина Герхардингер, — терпеливо втолковывала мне матушка, — это же основательница ордена Бедных сестер-школостроительниц, за десять лет она создала десять монастырских школ. Но деятельность ордена совсем не ограничивалась Дебреценом. Сестры работали и в Штатах, и в Канаде, и в Пуэрто-Рико. Ты внимательно меня слушаешь? Сама Каролина Герхардингер на своем миссионерском пути организовала пять провинций ордена, с центрами в Милуоки, Балтиморе, Сент-Луисе, Манкейто и Уотертауне. Но заместительница генеральной матери-настоятельницы всегда пребывала в Милуоки. В Милуоки. В Милуоки".
В гостинице мне дали целую пачку чистой бумаги, и всю ночь я сидела, куря сигарету за сигаретой, и писала. Каждые пятнадцать минут я звонила на аэродром, и вот часов в пять мне сообщили, что Айова принимает, однако, если я спешу, мне придется поменять свой билет, так как отсюда, из Милуоки, я смогу вылететь в Айову только к вечеру, а если меня не пугает полететь в противоположном направлении, в Чикаго, то там я наверняка найду какой-нибудь более ранний рейс. Когда я улетала из Милуоки, внизу, под крыльями самолета, тускло блеснуло, скорее угадываемое, чем видимое, огромное водное зеркало. «Каролина Герхардингер…» — все еще звенело в мозгу, и передо мной, прямо в белесой пустоте над озером Мичиган прошествовали строгой вереницей сестры-школостроительницы из дебреценской монастырской школы: впереди сестра Штилльмунгус, в середине сестра Каритас, а замыкала вереницу сама блаженная Каролина Герхардингер, которая вела за руку мою матушку, и они — то матушка, то Каролина Герхардингер — по очереди восклицали: «Милуоки!.. Милуоки!..»
В ту ночь в Милуоки я попыталась как-то собрать и систематизировать все, что знала о матушке, начиная с даты и места ее рождения и кончая серым январским днем, когда она оставила меня одну в мире, который без нее внезапно потерял всю свою реальность, — оставила с таким вот загадочным признанием, ставшим последними ее словами: «Сколько у меня было тайн…» Сначала я старалась писать, как писала бы в какой-нибудь официальной бумаге, излагая факты в логической и временной последовательности, но потом махнула рукой и стала записывать, не заботясь о порядке, все, что могла вспомнить о ее долгой, почти на восемьдесят три года растянувшейся жизни. И сама удивилась тому, как много, оказывается, я о ней знаю. Позже, когда я всерьез взялась за работу, когда в моих руках скопились документы, дневники, рассказы живых свидетелей, шкатулки с письмами, меня поразило как раз обратное: как мало, по сути говоря, знаю я о матушке.
Дома, когда я вынула свои американские записи и попробовала, опираясь на них, представить схему, костяк будущей книги, мне стало ясно: проку от этих записей будет немного. И дело было отнюдь не только в пробелах, заполнить которые мне казалось тогда задачей совершенно безнадежной, ибо той, о ком должна была рассказывать книга, уже не было рядом и никто уже не мог объяснить все, что сама она при жизни не объяснила, а я спросить в свое время не удосужилась… Нет, дело было, пожалуй, в другом. Теперь, когда далеко позади осталась призрачная, напряженная, ирреальная ночь в Милуоки и когда я с трезвой головой, необходимой для такой работы, перечитала свои заметки, лихорадочно набросанные на бумаге с фирменным знаком «Ред тэйп инн», я с ужасающей ясностью поняла: Ленке Яблонцаи не прожила восемьдесят два года, она умерла ровно на сорок девять лет и двенадцать недель раньше, чем ее похоронили, умерла еще молодой, на тридцать третьем году жизни, 5 октября 1917 года, в тот день, когда у нее родилась дочь. Почти тридцать три года билась она о прутья своей клетки-судьбы, разбивая об нее лоб и локти; почти тридцать три года не покидала ее слабая надежда: может быть, будет все-таки у нее дорога, своя, самостоятельная, дорога куда-нибудь. Но 5 октября 1917 года Ленке Яблонцаи подвела черту под собственной своей жизнью, поняла, что не дано ей испытать большую, как в романах, в стихах, с малых лет и до гроба не гаснущую любовь, не дано стать ни известной пианисткой, ни писательницей — никем. И с того самого дня она больше ничего уже не ждала, ни на что не надеялась, вообще как бы отказалась от своего «я», приковав себя к новорожденной дочери. Дав мне жизнь, Ленке Яблонцаи в тот день перестала существовать сама — и хотя дышала, двигалась еще почти целых пятьдесят лет, однако с того момента личная история, жизнь были лишь у ее дочери, а не у Ленке Яблонцаи.
Читать дальше