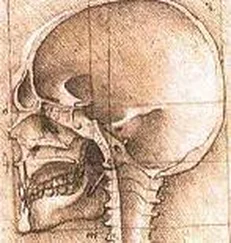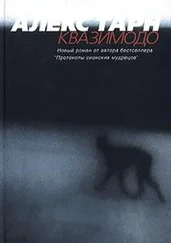— Госпоже плохо? Госпоже требуется помощь?
Говорили на идише. Рахель открыла глаза: перед нею стоял бородатый пожилой мужчина в широкополой шляпе и длинном тяжелом пальто.
— Нет-нет, я здорова, просто очень холодно… — быстро отвечала она на иврите, сама поражаясь тому, как легко вываливаются на язык слова, которыми ей не приходилось пользоваться вот уже более двух лет. — Я сестра Берты Мелрович, не знала, что они уехали, и теперь мне некуда…
— Бог ты мой! — перебил ее изумленный старик. — Такая молодая девушка… на святом языке… да где ж вы так научились? Пойдемте, пойдемте…
Через полчаса Рахель уже сидела в жарко натопленной горнице кременчугского раввина, пила чай с баранками и рассказывала затаившим дыхание бородачам о чудной и прекрасной Стране, хотя и не вполне пока текущей медом и молоком, но безусловно способной на это в весьма недалеком будущем. Она говорила об апельсиновой Яффе, виноградном Кармеле, оливковой Иудее, молочной Галилее и, конечно, — о самой необыкновенной жемчужине этой короны — озере Кинерет, подобном голубому зрачку, которым рай, если он есть, смотрит на эту сторону мира.
Бородачи зачарованно кивали, но явно ждали чего-то еще — чего-то еще более главного, еще более заветного и святого. Но что может быть главнее Кинерета?
— Простите, госпожа Рахель, — осторожно перебил ее раввин. — А каков на вид он… ну, вы понимаете… он…
— Он?
— Ну да. Он — Ерушалаим…
Рахель запнулась. Кременчугские бородачи, вытянув вперед шеи, ждали ее рассказа. Но что она могла им рассказать? Что так ни разу и не удосужилась съездить в Иерусалим? Что для нее и ее друзей-социалистов Святой Город — не более чем кучка ветхих строений, скопище бесполезных людей, клопиное гнездо средневековья? Они так и называли Ерушалаим — “Старые камни”. Старые, никому не нужные камни, вот уже сколько веков устремленные ввысь, в небо… Будущее вырастало не там, в вышине, а внизу, на почве, под лемехом плуга, под зубами сверкающих мотыг!
— Ерушалаим… — повторила Рахель, подбирая в уме правильные слова. — Видите ли, Ерушалаим смотрит в небо…
На этом месте раввин заплакал, и она вынуждена была прервать свой рассказ. Собственно говоря, продолжения и не требовалось. Даже полуграмотный ломовой извозчик, никогда в жизни не выезжавший отсюда дальше Полтавы, прекрасно понимал, что Ерушалаим невозможно описать в деталях. Достаточно одного общего признака. Так что “смотрит в небо” подошло как нельзя лучше.
В Вятку Рахель уехала вторым классом, тепло одетая и снабженная таким количеством провизии, что его с лихвой хватило бы на кругосветное путешествие. Поезда шли медленно: пересадки, бесконечное томление на узловых, станционные буфеты, жандармы на перронах — неподвижнее идолов. Эта дорога, как вена, ведущая в медвежье сердце огромной зимней России, не создавала ощущения движения, но скорее наоборот — ожидание, спячку, оцепенение. Поневоле задремлешь у морозного окна — проснешься — где ты? — в вагоне?.. на вокзале?.. в станционном буфете?.. — Бог весть… В окне так и так ничего не видно из-за инея, а надышишь крохотный, через минуту исчезающий окуляр — глядеть не на что, кроме чернеющей лесом белизны, одинаковой что днем, что ночью.
В одном можно было быть уверенной: если поезд все-таки стучит колесами не вхолостую, если случится ему добраться до Вятки хотя бы через век-другой, то кременчугская история не повторится ни в коем случае — просто потому, что в этом глухом углу время не течет вовсе, а потому невозможны и какие-либо перемены. Так в итоге и вышло. Рахель бывала здесь очень давно, еще девочкой: отец привозил знакомить с местами, где прошло его крестьянское детство. С тех пор мало что изменилось — разве что брат слегка постарел, да бревенчатые палаты показались теперь не такими огромными. Здесь, в стране медведей, ей предстояло залечь под толстым снежным одеялом и спать, спать, спать. С медведями жить — по-медвежьи спать…
Несколько месяцев Рахель честно пыталась следовать этому правилу, пока не полезла на стену, как совсем недавно в Риме, у Якова. Правда, там стена была каменной, с кирпичной изнанкой, спокойно глядящей из-под облупившейся штукатурки, а здесь — толстой, бревенчатой, украшенной расшитыми рушниками и массивными часами с блестящей латунной гирей и крикливой кукушкой, но суть от этого не менялась. Она не могла ждать, просто не могла, не было сил. Время остановилось, как бы громко ни тикали проклятые ходики, отрубая одну фальшивую секунду от другой, а кукушкино громогласное “ку-ку” больше напоминало “ха-ха”: смотри, дура, вот еще один час не прошел. Ха-ха, ха-ха, ха-ха…
Читать дальше