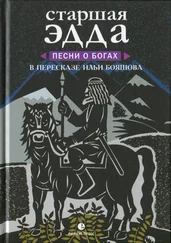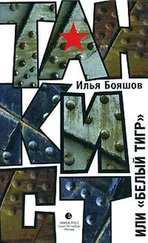– Я не знала, что делать со всем этим хозяйством, – рыдала несчастная женщина, – я все там оставила, они звонили мне, заберите, но я все оставила там… Как вы думаете, нужно было забрать? Как вы думаете?
«Черт подери, – думал я, – а ведь Большое Ухо все-таки улизнул в объятия Гайдна и Мендельсона! Конечно же, они приветят его у себя и усадят за стол в своей композиторской Валгалле. Там уж точно грохочут симфонии, симфониетты, оратории, страсти и реквиемы. Как он и желал – одновременно! Там он окончательно успокоится: ведь творцы примут его за своего – тут уж не приходится сомневаться! Правда, он всего лишь Слушатель. Но зато какой Слушатель…»
Мы еще долго горбились над кофейными чашечками. Нельзя сказать, чтобы я испытывал ощущение сиротства. Более того, когда дама принялась подробно рассказывать о мучениях, которые причиняли Слушателю хирурги, губы мои неожиданно разъехались. Я вспомнил вейскую обувь почившего меломана (вызывающее уродство его кед могло бы заинтересовать разве что нынешнюю молодежь) и едва успел закамуфлировать ладонью свой рот. Я отчетливо представил себе эти лапти с вечно развязанными шнурками. Однажды, выходя от меня и наступив на такой змеящийся шнурок, Большое Ухо чуть было не загремел с лестницы. Ему удалось зацепиться за перила, но он выронил свое сокровище – тщательно упакованный в газету диск. Пролетев пролет, пакет шлепнулся на нижней площадке, и я стал свидетелем мистического ужаса в глазах гостя. Кажется, в пакете был Мусоргский. Да-да, именно Мусоргский, тот самый исполин, обладающий даром создавать музыку, которая своей узловатостью и мощью почему-то всегда напоминала мне корни могучих деревьев. Тогда Слушатель все никак не мог расстаться с Мусоргским: таскал и таскал с собой «Ночь на Лысой горе», прижимая пластинку к груди…
XXIV
Вот, пожалуй, и все. Портулан есть морская карта, на которой показаны лишь берега – внутренняя территория суши на нем не представлена…
Я сделал неприятное открытие: сверло зависти по-прежнему трудится над моим сердцем – время от времени я чувствую его неустанную деятельность. Вдова Большого Уха (у меня не хватило сил отказать ей, ведь для нее я по-прежнему «друг ее почившего супруга») прислала тетрадь покойного – в общем-то, единственное, что от него осталось. Тетрадь нельзя назвать дневником: страницы сплошь забиты какими-то формулами и всего-то три записи. Привожу их:
Первая:
« Интересно, может ли дельфин выделить единичный звук из целой очереди в несколько сотен звуков и в каждом отдельном случае оценить, через сколько времени до него донесется эхо?»
Вторая:
«Не только свет, но и тень входит в царство музыкальных звуков, а значит, нет таких регистров – сколь бы тусклы или трудны они ни были, – которые бы навсегда были изгнаны из оркестра».
И третья:
«Логика требует, чтобы каждый инструмент говорил на своем языке; напрасны опасения, что это приведет к какому-то вавилонскому столпотворению, наоборот, только таким образом общее звучание станет единым и убедительным».
Повторюсь, это все, что осталось.
Да, чуть не забыл! Во время нашего ночного бдения за газпромовским столиком мышь поведала вот о чем: по просьбе мужа «накануне развязки», когда «все стало невыносимо», она ставила ему «одного ужасного композитора, знаете, с совершенно безобразной музыкой… совершенно безобразной». Дюймовочка в очередной раз расплакалась: «Господи, звуки были чудовищными! Вы не представляете… сирены… скрежет… просто чудовищные звуки! Может, мне не стоило приносить мужу такое в последний день?»
Я не согласился с подобным мнением. Большое Ухо знал, о чем просил, и жена притащила Слушателю именно то, что нужно.
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу








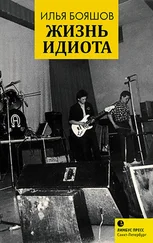
![Илья Бояшов - Бансу [Быль. Журнальный вариант]](/books/395024/ilya-boyashov-bansu-byl-zhurnalnyj-variant-thumb.webp)
![Илья Бояшов - Портулан [сборник]](/books/427808/ilya-boyashov-portulan-sbornik-thumb.webp)