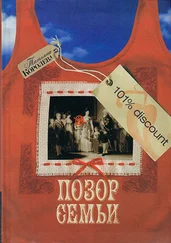Ах, девочки, девочки – малорослые, худенькие, симпатичные, чистенькие детки. Продавщицы, секретарши, маникюрши… Бегущие по утрам на работу с клиентами в полной боевой готовности – все, что надо, отчищено, подмазано, выщипано, сбрито! Младенцы в джунглях, выгнанные нуждой из дома на заработки… Андрей видел, сколько надежды в их глазках – сколько обращенной к нему надежды. Смущался. Неловкая нежность и смутная жалость соединялись в несильное, трепетное чувство и доставались Лидочке.
Так что не было в его жизни трагического раздвоения на любовь земную и любовь небесную. Он отдавал Лидочке то, в чем Эгле не нуждалась, как будто искупая свою вину перед оставленными девочками. «Да, и на этой хорошей крошке, и на этой, и на этой я в принципе мог бы жениться, – думал иной раз Андрей. – Но что это была бы за жизнь, если я уже сейчас ее себе представляю в деталях, на много лет вперед!»
На него поглядывали и другие – фальшивые, развязные, хищные. Но тут Андрей Времин превращался в истукана – мог даже оскорбить действием, если агрессорши наседали. Нет. Это – нет. Женский призыв не имеет права переступать черт у, и если он это делает, надо сражаться и отторгать врага, выметая его за границы.
Он не понимал, насколько он одинок, во всяком случае, не ощущал это как беду и драму. Потребность в личном общении без общего дела понемножку отсыхала, съеживалась, и он, проведя вечер с Лидочкой, чувствовал предельную насыщенность диалогом с другим человеком. Вот как будто дыней объелся – и вкусно было, а тошнит. Лидочка любила медленно, с выкрутасами раздеваться под музыку, что казалось Андрею надуманным, а было искренней попыткой реванша за жизнь с мужем, который никаких прелюдий не понимал. Лидочка всерьез интересовалась книгами, которые продавала, в основном то были современные романы, и спрашивала Андрея о его мнениях, а он редко заглядывал в современные романы и подозревал, что она спрашивает от неловкости и неумения говорить о том, что действительно важно. Она пыталась быть полезной: выхлопотала Андрею заказ на рекламную листовку своего магазина, и он сделал это, но с неохотой, с досадой. Сказал ей, что он пользуется ее наводкой в первый и последний раз. Не хотел брать даровое топливо женской любви. Это напоминало Андрею дядьку-Валерку, а он считал такое существование разновидностью наркомании. Равнодушие Эгле к чужой любви его восхищало. Жить из себя! Брать от неба, от земли, от воздуха и воды, от музыки, от книг – но не пожирать души других, вместе с грязью, с микробами, которые заводятся и в душах с той же легкостью, что в немытом теле…
…………………………………………………………………….
– Я часто встречаю в кинофильмах и телесериалах, – с неудовольствием заметила Нина Родинка, – огромное количество женщин, которые орут, визжат, рыдают, вопят и стонут при малейшей опасности или несчастье. Что за вздор такой? Где сценаристы, режиссеры и актеры видели подобное? Это чистый навет. Женщины охотно вопят и рыдают по пустякам, когда воюют с ближними за пространство жизни. Если есть подлинная угроза, настоящий ужас, если страхи не выдуманы, а реальны – подавляющее большинство женщин моментально отвердевает душой. Фонтан реакций вмиг затыкается. Наступает особая бесчувственность, которая делает возможной еще и особую решительность. Да, вылезает инстинкт, животное начало – так где вы видели животное, которое орет и визжит в минуту опасности?
У женщин есть красивая, почетная миссия оплакивания жизни, но она осуществляется в иных формах и в других обстоятельствах, чем нам показывают в клеветнических визуальных поделках.
А откуда взялась дикая идея, что женщины боятся мышей? Не видела ни одной такой бояки за всю жизнь.
Чушь какая-то!
…………………………………………………………………….
У Эгле были основания верить в свою исключительность. Несколько раз в жизни она испытывала запредельные экстатические состояния. Им предшествовали три обстоятельства – Эгле была голодна (не было нужды есть, не тянуло), что-то сочиняла в уме и много двигалась, ходила до изнурения. Тогда и происходило невозможное, точно открывались двери, и на Эгле обрушивался поток Логоса. Он мчался на сверхъестественных скоростях, и она мало что могла схватить, опознать, запомнить – так, какие-то клочки, отрывки… Ум изнемогал от трепета, он не был приспособлен понимать Это, был внутри, ощущал – но не понимал.
Однажды она пробовала вступить с вихрем в диалог и спросила что-то о воплощении человека, и вихрь ответил, в секунду излив на нее подлинную историю человеческой мысли. Слабыми умственными пальцами она схватила лишь ниточку, обрывок рассказа о назначении Троицы. Единое существо, оказывается, разделялось на три части, и каждая часть проживала земную жизнь в человеческом облике, затем сливаясь обратно, и таких единых существ было множество. Растроение единого и самостоятельное развитие каждой части с последующим воссоединением было принципом, законом, движущей силой, и любой незаурядный ум, любой настоящий талант являлся развитием одной из частей своей Троицы. Когда лился поток, Эгле сознавала, хотя потом не могла бы объяснить никогда и никому, кем были за пределами реальности Ницше, Леонид Андреев, Марина Цветаева, Даниил Хармс и прочие любимые духи, откуда они вытекали и с кем сливались потом в единое сущее. Растроение ведется в своем неумолимом ритме – поняла Эгле, – три реки, постранствовав по нашему свету, возвращаются обратно в море Единосущего, но затем оно троится вновь, и все это жутко, неведомо, не нужно нам… Поток мучительного знания изливался не на нее – она как-то под него попала, в разрыв, прореху, выскочила из коридора действительности, как Андрей угодил под любовь. Случайно? Нет – есть свои законы у разрастающейся внутренней жизни, у садоводства уединения, у избежания накатанной колеи.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу