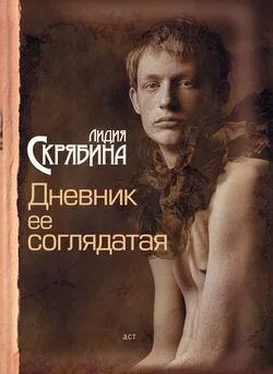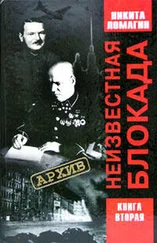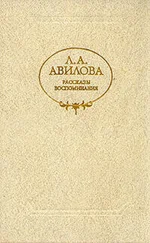Днем было не лучше. По улицам бродили тифозные красноармейцы в больничных халатах в поисках пропитания. Кормиться стало трудно, часто даже хлеба в продаже не было. Муку выменивали на вещи, но для этого приходилось ехать на хутор или в станицу, а это было очень опасно.
Мама чаще всего запирала нас с Павлушей в подвале и шла со старшим Сережей на базар продавать наряды из заветного сундука или на хутор, чтобы раздобыть какой-нибудь еды. Вестей от отца с Донбасса не было. Мы не видели его почти год, хотя деньги получали регулярно. Часто с верными людьми он передавал маме и золотые царской чеканки, которые та зашивала на черный день в свою выходную польку.
Порфишка неизвестно где пропадал, заявляясь иногда по ночам. Грязный, обросший и веселый, он неожиданно заскакивал, как черт из печной трубы, чтобы что-то забрать из своих многочисленных тайников в доме. Мы только гадали, на кого он теперь охотится. Порфишка не только якшался с горцами, но и, по сути, сам был абреком еще с тех пор, когда вместе с ними мальчишкой промышлял продажей путешественникам горного хрусталя на Военно-Грузинской дороге.
Приехавший из Пятигорска со Съезда народов Терека мой дядя Осип Абрамович возмущался, как жестко отстаивали свою позицию горцы и как лебезили перед ними левые товарищи, готовые на любые уступки, лишь бы удержаться у власти.
Мама только теребила край платка и шептала: «Тише, тише», – боясь, что его могут услышать наши жильцы-подпольщики.
«Чужаки, иногородние, так и лезут урвать чужой земли! Вот кто орал громче всех о тайной контрреволюционности казаков, – горячился Осип Абрамович. – Эти скоты готовы пойти за кем угодно, лишь бы хапнуть нашу землю».
Надо ли говорить, что на хутор Осип Абрамович принес не согласие, а ропот. В станицах начались смута и брожение. Говорили о полковнике Шкуро, собиравшем в Бургустанском лесу казаков, об отрядах Агоева и Гажеева. А в первых числах июня с кавказского фронта привезли по железной дороге оголодавшую и истерзанную 39-ю пехотную дивизию. Солдаты, а по сути мародеры, занялись грабежом – забирали зерно и скот в Александровской, Подгорной и Георгиевской станицах. Все это было чуть дальше от нас, в Пятигорском районе, но слух об этом насилии над своими быстро разнесся по всему взбудораженному Кавказу.
В конце июня зазвонили колокола в Моздокском районе, да так отчаянно, что было слышно даже у нас. Это взбунтовавшиеся казаки взяли Моздок. Собрали собственный съезд. Выбрали совет, который там, в Моздоке, возглавил осетин Георгий Бичерахов, а здесь, по Владикавказу, главным определили начальника штаба, полковника Соколова.
У нас во Владикавказе в это время проходил свой Съезд народов Терской области, на котором решали совсем другое: отнять землю у казаков и отдать всем желающим. Каждый решал свое, и каждый был в своей правоте.
Почти все эти полгода я просидела с Павлушей в подвале и новости узнавала из обрывков разговоров соседей и жильцов. Самой мне, кроме запаха сырости, жуткого ночного затишья, когда тревожный сон обрывается хлопками выстрелов, скрежетом взламываемых дверей и далекими криками о помощи, и вспомнить не о чем.
Слухи о дневных и ночных происшествиях, о дальних и ближних кровавых стычках клубились по городу, перекатывались со двора во двор, обрастая все более жуткими подробностями. Жители охали, ужасались, но с вожделением ждали вестей все омерзительней, подробностей все кровожадней. Словно хотели почувствовать всю полноту конца света.
К лету я совершенно осатанела от тюремного заключения и сообразила выдавливать боковую дверь в еще более низкий подпол, откуда был лаз во двор. Его еще Порфишка прорыл, чтобы воровать съестное для Ириши Антоновой, когда та с мамой начала голодать.
Летом все немного приободрились. Мы стали чаще выходить в город и в горы за дикой алычой и орехами – не потому что все успокоилось, а потому что привыкли к выстрелам, голоду, грабежам и даже к смерти. Каждый день кого-то убивали, но все принимали это с тупым равнодушием, если дело не касалось самой близкой родни. Конец света оказался такой же рутиной, как и все остальное. Мама, будто устав о нас беспокоиться, отпускала теперь Сережу со мной на рынок одних.
Другие горожане тоже, казалось, очнулись от столбняка и продолжили заниматься своими делами. Наш сосед-фотограф даже на рыбалку стал ходить и торговать рыбой на базаре, потому что продовольственную комиссию у него отобрали. Это звучит неправдоподобно, но люди быстро привыкли к новой жуткой жизни, словно прежней, мирной, никогда и не было. Ее даже никто не вспоминал.
Читать дальше