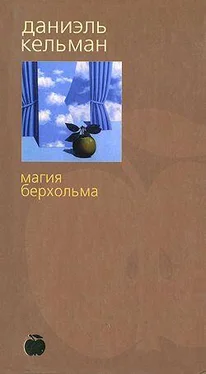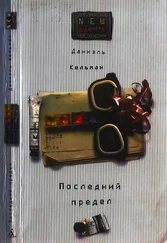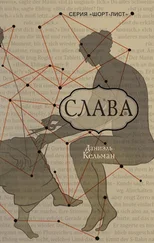– Спасибо, – поспешно произнес он, – не стоит. Я об этом… осведомлен. – Он снял очки, поискал что-нибудь, чем можно было бы их протереть, ничего не нашел и снова их надел. – Ну хорошо, я принимаю вашу работу.
Он снисходительно кивнул: «Я вас больше не задерживаю». И поставил мне «четыре». Я совершенно уверен в том, что он не прочел моей работы. Никто ее не читал, и теперь она тихо тлеет в каком-нибудь академическом архиве в ожидании вечности. Да и эти строки, которые я пишу на глазах у прихлебывающих кофе туристов и в виду прозрачной, ничем не замутненной смерти, никто не прочтет. Разве что ты. С другой стороны, что за глупости! Ты тоже не прочтешь.
На этом закончилась моя учеба. Потом были несколько месяцев обязательных испытаний совести и духовных упражнений. На практике они исчерпывались тем, что мы с коллегами должны были в одних носках сидеть на ковре и распевать незамысловатые песни («Славься, Боже, гряди, Боже!») под аккомпанемент ксилофона. Как-то раз я решился отвести в сторону нашего духовного наставника, отца Рюрхенкеля. Я учился в Григорианском университете, выдавил из себя я, написал работу о Паскале, у меня государственный диплом, нельзя ли мне по крайней мере не снимать ботинки?… Нельзя. К тому же я получил плохой отзыв за то, что противопоставлял себя коллективу. Несмотря на это, немного позже я был допущен к рукоположению в сан дьякона. Хор мальчиков, орган и епископ внушали возвышенные чувства. После этого отец Фасбиндер предложил мне перейти на «ты». Теперь оставалось недолго до следующего, более важного шага.
– В последние недели, – сказал я отцу Фасбиндеру, – мне снятся такие странные сны…
– О нет! – простонал он. – Хоть вы… Хоть ты меня пощади…
– Нет, сны иного рода. Я иду по улице, по самой обычной улице, даже чем-то знакомой. И вдруг я чувствую, что куда-то падаю. Или вот-вот упаду. Как будто где-то подстерегает опасность. Но я не знаю где. Во всем какая-то странная неопределенность, ненадежность. Или, если описать это иначе: как будто я забыл что-то дома. Что-то очень важное. Но не помню что. Иначе говоря…
– Спасибо, я уже понял. Дни, отведенные на раздумья у отца Рюрхенкеля, тебе, наверное, не очень помогли. Черт возьми, Артур, сколько раз тебе повторять: я замечаю, когда ты ухмыляешься. Пожалуйста, если это показалось тебе слишком легким, – попробуй иначе. Завтра ты уезжаешь на два месяца в Айзенбрунн. Ага, перестал усмехаться.
Айзенбрунн – как это звучит! Вызывает ассоциации с сельским уединением и Средневековьем. Некоторые, может быть, слышали об айзенбруннской рукописи, собрании посредственных средневековых песен и однообразных мелодий. Монастырь Айзенбрунн находится в скучной, плоской местности, некогда покрытой темно-серыми лесами, а сегодня – дачами унылого среднего класса. Поблизости проходит четырехполосная автострада; линия высоковольтных передач насыщает воздух тихо жужжащим электричеством. (Я к ней и близко не подходил, опасаясь внезапного и необъяснимого удара молнии.) Где-то во влажной пещере берет начало источник с непригодной для питья сернистой водой – отсюда название: в древности – Изенбронн, сегодня – Айзенбрунн. Недавно какому-то авантюристу пришло в голову разливать эту мерзкую воду в бутылки и продавать как целебную; сегодня он зарабатывает на этом миллионы. Сам монастырь не особенно красив. Сводчатые переходы, сырая трапезная, суровая капелла, библиотека, состоящая из скучных и нечитаемых фолиантов. Есть несколько уединенных, посыпанных гравием дорожек меж бурыми огородными грядками и колоннада для прогуливающихся монахов, читающих молитвенники. В нише удивительно совершенный фонтан. Его часто фотографируют; к счастью, по виду воды не скажешь, какова она на вкус.
Монахи в Айзенбрунне дают обет молчания. Строжайший. Это означает, что им не разрешается разговаривать ни с кем, никогда. Лишь после полудня, в воскресенье, можно в течение получаса обсуждать самые важные вопросы. (Например: «Думаю, я заболел», «Ты еще не вернул мне молитвенник», «Отец Бонифаций умер».) Контакт с внешним миром поддерживает только настоятель; только ему не запрещается говорить. Но говорит он редко и неохотно.
Сначала мне было только скучно. Бесконечная месса по утрам (моя вечная проблема: ужасная тоска богослужения), и ничего больше. Буквально ничего. Обед около двенадцати, в семь ужин. И между ними ничего. Ничего.
Ни телевизора, ни радио, разумеется. К тому же ни газет, ни книг (кроме как из монастырской библиотеки, но тогда уж лучше совсем без книг). Мне не разрешили взять с собой ни одной книги, даже мои профессионально-холодные сочинения по магии. По желанию я мог получить нелинованную бумагу и тупой карандаш, но лишь для того, чтобы записать свою автобиографию и пронумерованный список грехов. Мне не хотелось ни того, ни другого.
Читать дальше