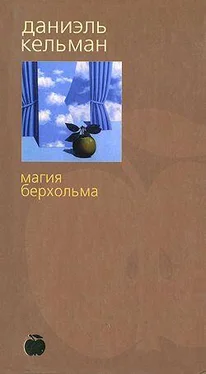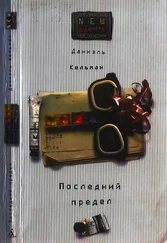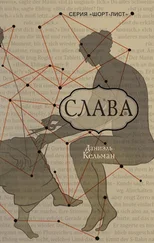Мой поезд отходил только через несколько часов, поэтому я пошел на кладбище. На могилу Эллы. Я не бывал там со дня похорон и не раскаиваюсь в этом. Меня ожидал лишь надгробный камень. Прохладный, в темных прожилках мрамор с выложенными на нем золотыми буквами именем Эллы, датами рождения и смерти, и ничего более. Ну хорошо, что же я думал там найти? Не знаю. Но это был всего лишь камень, и только, и мне было непонятно, какое отношение он имеет к Элле. Разумеется, где-то под этими поблекшими цветами покоились несколько деформированных костей и череп с дырой причудливых очертаний; плоть, которую Элла некогда носила с собой. Ну и что же? Как этот вздор, эта горстка шутовского сора смеет притязать на то, что когда-то была Эллой? Здесь явно произошла ошибка, недоразумение, в этом нужно было разобраться. Может быть, я когда-нибудь разберусь, когда-нибудь потом, позднее. А может быть, совсем скоро. Я повернулся и медленно побрел прочь, мимо бесконечных колонн отдающих салют надгробных камней. Сплошь заурядные имена! Мы думаем, что в смерти есть что-то таинственное, но она столь же обыденна, как телефонная книга. Почти все камни были новенькие, хорошо отполированные и усердно блестели на солнце. Но было и несколько полуразрушенных, изборожденных временем и непогодой, увитых плющом и почти красивых.
После каникул во Флоренции (разочарование, жара, смрад, полуголые, волосатые туристы) я вернулся в Ле-Веско. Начался мой последний курс, и на дальнем его конце распростерлась зловещая тень экзаменов. Финзель постарался раздуть их до невероятных размеров; еще в начале года он прочитал нам длинную лекцию, изобиловавшую эпитетами «важный» и «решающий». Вскоре после этого деревья сбросили первые использованные листья, а их кроны окрасились в сотни оттенков желтого. Долговязые крестьянские дети, сопровождаемые угрожающего вида бурыми псами, гнали на пастбище в долину равнодушно моргающих коров. По ночам ветер бился в оконные стекла, обрывал листву с деревьев и разрушал идиллию. Деревья Аркадии облетели. А потом наступила зима.
Но довольно об этом, хватит описаний природы! Я не могу больше откладывать, никакой прием замедления не избавит меня от мучительного мига. Ну хорошо, я скажу. Что я хотел изучать? Я хотел изучать богословие.
Да как это (вопрос, который сейчас должен задать и задает себе любой разумный человек) только пришло тебе в голову? И когда? И самое главное, почему?
Знаю, знаю. Именно это я и предвидел. Так и должно было быть. Нужно отдавать себе отчет в своих поступках; черт возьми, что бы с нами сталось, если бы это было не так!.. Значит, придется рассказать. Я мог бы обосновать свое решение ночными озарениями, неколебимой внутренней убежденностью и эхом отдающимися в моих снах словами о призвании – но это была бы ложь. Ничего подобного не было. Ни один ангел не взял на себя труд мне явиться. Я не знаю, как звучит глас Божий. Я не был призван.
Ты еще помнишь школу? Уроки аналитической геометрии? Не бойся, я не собираюсь терзать тебя такой скукой. Но я должен показать тебе некую кривую и ее странные приключения. Простой пример: функция у = 4/х. Если мы подставим вместо икса четыре, то получим… – правильно, один. Если взять три, получится четыре трети, или периодическая дробь 1,(3), глупое число, начисто лишенное изящества и юмора. Если возьмем два, получим тоже два. Единицу – получим четыре. А если взять ноль?
Вот именно. Интересно, есть ли на свете человек, который не почувствует сильнейшего головокружения, дрожи, озноба и трепета, болезненного холода где-то в желудке и внезапно не ощутит вокруг себя ледяную даль Вселенной, если только всерьез попытается представить себе, что произойдет с четверкой, если разделить ее на ноль. Математик, не утруждая себя сомнениями, рядом с расчетами помечает тонким пером «не п. о.» («не поддается определению»), признаваясь в том, что его наука оказывается несостоятельной, стоит ей только прикоснуться к беспримесному ужасу и чистой, незамутненной вечности. А геометрия? Она фиксирует, как кривая медленно поднимается по обеим сторонам оси координат, чтобы, приблизившись к ней, внезапно начать отклоняться, а затем, на последних миллиметрах, взмыть ввысь, за край листа, в никуда. Это явление называют полюсом или местом бесконечности, а возникающая при этом фигура походит на пузатую вазу для цветов, горлышко которой, вместо того чтобы, как подобает, достичь длины в несколько сантиметров, теряется где-то в облачном небе. Я до сих пор помню, как схватился за края своего точно в качку зашатавшегося стола, впервые следя за ходом этой жалкой и незамысловатой кривой: она берет начало в мире низменных повседневных чисел, у нас на глазах взмывает ввысь, на какое-то мгновение обретает значение бесконечности и вновь опускается туда, где зародилась. Но она там побывала, Боже мой, она действительно там побывала! Мы же сами видели, как линия, результат нашего холодного расчета, преодолевает границы мира и возвращается, как ни в чем не бывало.
Читать дальше