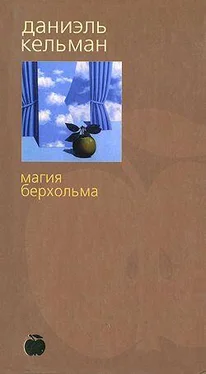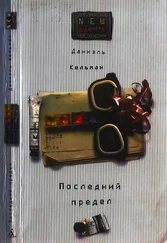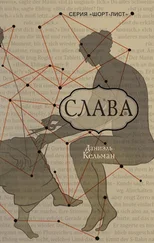Я закрыл за собой дверь, подвинул поближе стул и сел. Он молча глядел на меня; его густые пушистые усы поблескивали.
– Я должен с тобой поговорить.
Он кивнул:
– Я слушаю.
– О том, что я буду делать после школы. Через год, после выпуска.
– О твоей будущей профессии?
– Не уверен, что ты назвал бы это профессией. Он улыбнулся:
– Готовишь меня к худшему?
– Как сказать.
Он выжидательно молчал. Я перевел дух. Ну хорошо; нужно заставить себя начать…
Пока я говорил, сумерки за окном сгустились и превратились в ночь. Берхольм сидел очень прямо и слушал меня. Его лицо было неподвижно, лишь иногда глаза у него захлопывались и снова открывались. Силуэт дерева за окном слился с черным фоном. В небе блеснула звезда и медленно поплыла прочь. Нет, всего лишь самолет.
Договорив, я откинулся на спинку стула и стал ждать. Я взглянул на стенные часы. Стрелки почти не сдвинулись с места. Прошло всего десять минут. Мне казалось, что я говорил много дольше.
Берхольм откашлялся, взял маленький карандаш и повертел его в руках, удивленно разглядывая. Потом он его отложил.
– А ты уверен, что тебе это подойдет?
– Думаю, да.
– И потом, насчет графика и прямой… Не знаю, правильно ли я тебя понял. Для меня это немного запутанно. Но решать тебе.
– Так ты не возражаешь?
Он снова взял карандаш – тот же самый – и снова принялся его вертеть.
– Неужели я вправе возражать?
Я пожал плечами. Некоторое время мы сидели молча, – собственно, говорить было больше не о чем. Берхольм все еще исследовал карандаш; я отчетливо различал его шумное дыхание. Внезапно я почувствовал, что должен как-то поблагодарить его. Ведь он приютил меня, оберегал меня, заботился обо мне, учил, рассказывал мне перед сном сказки и гулял со мной по дому. Но как благодарить за это человека, с которым тебя ничто не связывает? Я подождал полминуты, целую минуту, в тщетной надежде на вдохновение, способное даровать мне единственно верные слова. Вдохновение меня не посетило, оно приходит редко. Поэтому я скомкал остальное, пробормотал что-то вроде «не буду больше мешать», встал и вышел.
Я пробыл у Берхольма еще два-три дня. Я должен был продлить паспорт; мне пришлось пойти в душную контору, стоять в очереди, глядя в затылок мучимым кашлем людям, отвечать на бессмысленные вопросы нелюбезных чиновников, облеченных властью над выстроившимися шеренгой печатями. На обратном пути мне повстречался какой-то бородач, показавшийся мне знакомым. Увидев меня, он высоко поднял брови и удивленно улыбнулся. Это был отец Гудфройнт.
– Штефан! – воскликнул он. – Сколько лет, сколько зим! Как дела?
– Спасибо, хорошо, – ответил я. – Артур.
– Да? Ну да, конечно. Отлично! Ты еще учишься?
– Через год заканчиваю школу. Потом буду поступать в университет.
– Как летит время… Правда? И что же ты будешь изучать?
Я минуту подумал:
– Химию. Химию технологических процессов.
– Правда? – Он открыл рот и взволнованно покачал головой. На нем были такие же джинсы, что и десять лет назад, может быть, даже те же самые. В бороде у него сквозила седина. Как летит время. – Очень интересно!
– Да, – повторил я. – Очень интересно.
Гудфройнт посмотрел на меня, и в его взгляде промелькнуло едва уловимое выражение неуверенности.
– Ну хорошо, – сказал он. – Тогда… Тогда еще раз всего хорошего! До свидания, Артур! – И он повернулся и зашагал прочь.
Я проводил его взглядом, наблюдая, как уплывает, покачиваясь, вязаный свитер. Потом он повернул за угол и исчез. Испытывая что-то напоминающее угрызения совести, я побрел домой.
А потом, вскоре после этого, я уехал. Я пожал руку Берхольму, ловко, обманным движением ускользнул от объятий его жены и погладил девочек по белокурым головкам. Я уезжал в один из тех дней на исходе августа, когда по слабым магнитным возмущениям в атмосфере чувствуешь, что все скоро кончится. В такие дни замечаешь, что цветы еще не завяли, а осы и жуки еще хлопочут, но трудно отделаться от некоего смутного беспокойства. У каждого года есть в запасе такой день, он настает внезапно, и никто не знает, откуда он берется и почему. Может быть (но ты, наверное, уже заметила, что я просто оправдываюсь), именно поэтому я так спешил уйти и ушел, ни разу не обернувшись, так и не попытавшись сказать Берхольму что-то важное. Если бы я знал, что мне больше не суждено его увидеть, что это наша последняя встреча, – что тогда? Откуда мне знать! Стоит подумать о том, что уходит невозвратимо, что упущено навсегда и не вернется, пока этот огромный, загроможденный звездами космос не растворится в ослепительном сиянии, как оказываешься на грани безумия. Если бы я по крайней мере обернулся! Я точно знаю, моя память сохранила бы этот последний образ Берхольма, стоящего на пороге и глядящего мне вслед. (Не подмигнул ли он? Нет, это было бы не в его стиле.) Конечно, в моем сознании живо множество его образов, но именно этого, самого главного, не хватает. Моя коллекция без него неполна и обречена остаться неполной.
Читать дальше