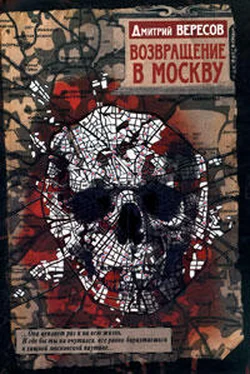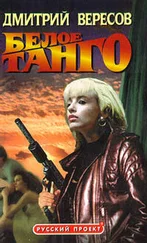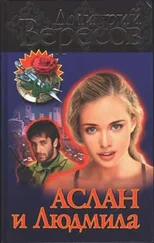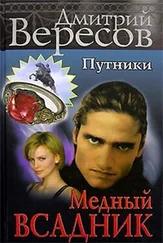– Кто чушкан?! – заголосил Бубен, срываясь в фальцет. И не выдержал, обернулся к Пермяку: – Жека, скажи… Какой я чушкан?!
Но напрасно он искал защиты. Пермяк давно уже чуял проигрыш и понял, что Бубна придется отдавать, и не просто отдавать, а уничтожать собственноручно, чтобы отмазаться. Поэтому он набычился, оскалился по своему обыкновению и громко прошипел:
– Кто тебе здесь Жека, чущ-щкан?! Кто тебе здесь Жека?! А не подать ли тебе пряничка, щ-щтоб на паррращ-ще схавал?!
Так и определили Бубна в чушки, и приходилось ему соответствовать. Хорошо еще, не опустили, не подхватив намека Жеки Пермяка. Все решило слово князя Лишая: раз назвал князь чушканом, так тому и быть, ни больше ни меньше. На том буча и кончилась – по какой-то причине князь не хотел резни.
Вероятно, состоялось некое разбирательство блатных с Пермяком, но, чем оно закончилось, мужиков не уведомили, а сами они и не интересовались, зная свое место. Пермяк смотрел на Юру голодным волком и скалился по дурной своей привычке. Но не задевал, вероятно, соблюдал какой-то зарок. У блатных была своя сложная дипломатия, свое закулисье. Поговаривали, что Пермяк стал слишком популярен у юношества, у блатных волчат, и князь Миха Лишай воспользовался случаем, чтобы придушить выскочку, указать ему место.
Но Юра понимал, что при случае Пермяк припомнит, как по Юриной милости оказался он по уши «в маргарине», откровенно-то говоря, то есть был публично опозорен связью с чушкой. Юра понимал, что Пермяк – враг смертельный. А спину ему, одиночке, держать было некому, и Юра устал от бдительности, как от долгой, темной, голодной и холодной зимы.
Бубен же в чушканах совсем съехал с катушек, подбирал объедки и хабарики, крысятничал, если точно знал, что не поймают, пасся при мусорных бачках уже в открытую и собачился так, что клочья летели, с такими же, как и он, изгоями зоны. Юре он на глаза попадаться избегал, ненавистничая на расстоянии.
* * *
Однажды по весне, днем воскресным, когда под теплым солнышком развезло и землю, и души человеческие, Юра стоял себе просто так на пустынном пятачке между баней и клубным заведением, без единой мысли в голове, закрыв глаза и подставив лицо солнцу, чуть не подремывая. Бубен подошел со спины с целью убить его, но, видно, духу не хватило, и стал он порожние базары разводить:
– Заторчал, Немтырь? А смерть твоя пришла, – прохрипел он, сматывая с запястья кусок шпагата.
Юра даже не повернулся, сам не понимая в полусне, то ли умер уже, то ли нет у него предчувствия смерти, а потому и опасаться нечего. Солнце греет, небо просвечивает сквозь опущенные веки, от земли пар, воздух дрожит, оживая, и перезревшие ночные сосульки тихо звенят, падая с крыши бани. А враги бессильны, пусть и сами об этом не знают.
– Помирать пора, Немтырь, – издевательски повторил Бубен, озадаченный, однако, Юриной неподвижностью, и со шпагатом дело как-то затормозилось. – Прощайся с житухой.
– Опять вяжешься, Бубен, – не оборачиваясь и не открывая глаз, через силу протянул Юра. Совсем не до Бубна ему было. А было ему до любви к женщине. Да так, что хоть помирай, в самом деле, все легче. И Бубну он ответил: – Отстань. Ничего я тебе не сделал. С Пермяка спрашивай. Сам знаешь, он тебя подставил, не я. А мочить меня пришел, так мочи давай, не выеживайся и не твистуй за спиной.
Так и стоял, закрыв глаза, закинув голову, с оголенной беззащитной шеей. И Бубен, подобрав удавку, молча отвалил, чавкая по снежной грязи. Потому как от непоняток лучше держаться на расстоянии. С чего бы это Немтырь смерти не боится? Непонятно как-то выходит. И опять-таки, Пермяк, с-сука. Продал, с-сука. Обошелся с правильным пацаном как с последней дешевкой, с-сука, накручивал себя Бубен. Стрелку ему забить, с-суке, и спросить как с гада.
На следующий день Бубна с помятой грудью и пробитой головой нашли в угольном бункере котельной, и никто не сомневался, что убийство чушкана было делом рук Жеки Пермяка.
– Усох, как мухомор, – вздохнул в собравшейся у котельной толпе кто-то неопознанный, по всей вероятности, случайный свидетель смертоубийства или просто личность наблюдательная, бдящая, всеведающая и способная к фиксации важных событий, какими в старину летописцы бывали. – Куды ж ему, сопливому, на шерстяного наезжать? Шерстяной без базару обидит. Законов не знают, бакланье щипаное, а туда же – на зону. И принимай сына, мать родная, – фанера поломата, макитра аж до мозгов расчесана… Это его разводным ключом, стало быть, так гладко причесали, чтобы пиковину не марать о чушкана, а потом уж наширяли копытом по фанере – в сердцах, чтобы злобу уморить.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу