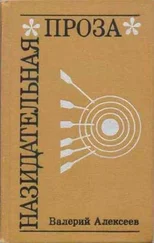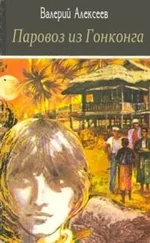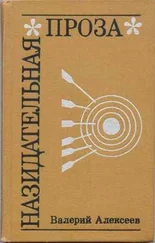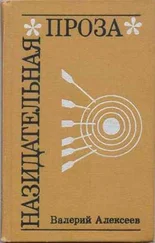С отъездом Гарика Анюта перестала поддерживать даже видимость семейных отношений, она все чаще пропадала то на два, то на три дня, возвращалась раздраженная, усталая, на вопросы не отвечала и сразу уходила к себе отсыпаться, демонстративно закрываясь на щеколду и на замок, как будто я ее домогался. Насколько мне было известно, в деньгах она нужды не испытывала: во всяком случае, с просьбами подобного рода она ко мне не обращалась. Имелось у нее и пристанище – на Кузнецком мосту, в коммунальной квартире. Я узнал об этом случайно: позвонила хозяйка и ядовитым голосом попросила передать доченьке, чтобы она не оставляла включенным свет. В день путча я поехал ее искать: Лиза сообщила мне по телефону, что в центре танки и что скоро начнется побоище. По ошибке я вышел из метро в сторону Манежной, там митинговали, Тверская была перегорожена троллейбусами, над баррикадой развевался триколор, на крышах троллейбусов стояли и сидели люди. Небо было теплое, бледно-желтое, как над моим болотом, дождя еще не было, но он назревал. Стрельбы, однако же, никакой не предвиделось, и я пошел к площади трех театров. Тут со стороны Лубянской и в самом деле появились танки, они мне показались желто-коричневыми, иноземными. Танки весело катили мне навстречу, дула орудий были лихо задраны и подпрыгивали на ходу. Сейчас хлестнут очередями, подумал я, и все, и мне станет легко. Я побежал, приговаривая вполголоса: "Ну-ну, давайте, я здесь!" Но в это время передний танк резко затормозил и, крутясь на одной гусенице, стал разворачиваться. Когда я добежал до угла Пушкинской улицы, танки уже исчезли, как мираж, оставив только сизый дым да концентрические круги на асфальте. Какие-то люди перегораживали Охотный ряд: останавливали троллейбусы, высаживали пассажиров. "В чем дело, товарищи?" – "Здравствуй, товарищ, приехали!" Возле сквера у Большого театра стояла милицейская машина, патрульные с любопытством наблюдали за происходящим и не вмешивались, как будто тоже смотрели сон. Командовал перекрытием коротконогий бородач в голубой тенниске, похожий на меня, но не я, и делал он это так шустро, как будто занимался баррикадами всю жизнь: отсоединял штанги, цеплял их за крюки и, заскочив в кабину, уверенно крутил руль, а мужики, упираясь сзади, выкатывали троллейбусы на середину проспекта. "Чего стоишь, помогай!" – крикнул мне парень в белой ветровке, не разглядев, по-видимому, к кому обращается. Я подошел, стал вместе со всеми толкать. Троллейбус встал косо, оставив проход возле тротуара. Пока его разворачивали, в этот проход проскользнула черная автомашина, она едва не задела меня за пятки. "Ох ты, какого генерала упустили! – сказал мне парень в ветровке. – А ну-ка, папаша, отойди, справимся без тебя". Я поглядел по сторонам – люди привычно отводили от меня взгляды, им было неприятно, что к их делу подключился урод. Тут еще подъехал микроавтобус телестудии. Скособочась, я отошел на тротуар, и все вокруг меня стало черно. Это было мое прощание с действительностью. Анюта вернулась через три дня, бледная, как будто все это время сидела в подвале. О том, что был путч, она, похоже, и не подозревала. "Володю выпустили?" – спросил я. Анюта посмотрела на меня с усмешкой: "Вы очень догадливы, Евгений Андреевич".
Я знаю, вы презираете меня, господа, за то, что я так поглощен своей личной драмой. Оставьте: ваша модель действительности тоже в революционном развитии, я в нее не вписываюсь, как и в ту. Тем более что я не верю ни в Бога, ни в черта, ни в Дарвина, ни в вашу свободу. Свой выбор я сделал задолго до вас, в августе желтого дракона, на Лиховском болоте. И ни о чем не жалею. Теперь, конечно, с высоты своего положения, я понимаю, что в моем плане заложен был изначальный дефект, что-то имелось в нем литературно-ущербное (цветочница Анюта – профессор Хиггинс – новая Галатея), что-то не требующее жизненного продолжения, рассчитанное на финал – пусть счастливый, но все же финал. А если вдуматься: ну, полюбили меня (за мой ум, за мою доброту!}- и что дальше? Дальше надобно поскорее умирать, чтобы этот финал не испортить. Ведь, в сущности, оба моих предшественника, и античный скульптор, и британский лингвист, были обречены: творение пожирает своего создателя, любовь Галатеи должна быть отравлена сознанием учиненного над нею насилия. "Да, да, ты вытесал меня из камня (вытащил из грязи), так туда меня, обратно, в каменоломни (на панель)". Теоретически я был обречен, хотя задумка была прекрасная, впрочем, идея никогда не бывает ни в чем виновата. Но мог ли об этом думать я, одинокий несчастный монстр, душа которого к тому же с малолетства была пропитана философией насильственного благодеяния? Мне, быть может, еще повезло: Галатея моя умертвила меня прежде, чем полюбила.
Читать дальше