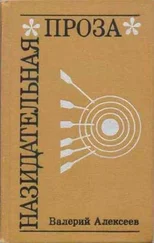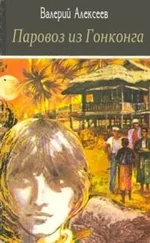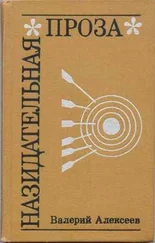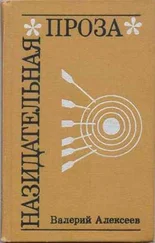Валерий Алексеев - Стеклянный крест
Здесь есть возможность читать онлайн «Валерий Алексеев - Стеклянный крест» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Стеклянный крест
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Стеклянный крест: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Стеклянный крест»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Стеклянный крест — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Стеклянный крест», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Мы углубились в какие-то животноводческие ограды, запахло навозом. Не волнуйся, дорогая, подумал я, закопали тебя, с облегчением вздохнули – и завели себе кошку Муську.
Видимо, моей спутнице как-то передалась эта мысль, потому что она вдруг с тревогой взглянула на меня и сбилась с шага.
– Не знаю, зачем я вам все это рассказываю, – проговорила она. – Так захотелось перед вами раскрыться. Скажите, а вы случайно не сатана?
Это был вариант, но, поразмыслив, я его забраковал (мало ли чем это может для меня обернуться) и заверил простодушную спутницу, что для такого лестного предположения нет никаких оснований.
– Нет, я почему спросила? – залепетала, оправдываясь, Люся. – Вы такой античный, такой кряжистый… – Примирить эти два определения ей удалось не сразу, но она нашлась. – Вы похожи на фавна.
Это мы уже проходили. Здравствуй, Лиза, имя тебе легион.
– Скажите, а тело, одежда, – трепеща, продолжала Люся, – зачем они здесь? Мне как-то казалось…
– Видите ли, – с неохотой отозвался я, – душа – это форма энергии, а энергия – форма материи. Какая-то форма так или иначе необходима. Даже голограмма на чем-то должна быть записана. Отличие в том, что голограмма – это уже использованная, истраченная энергия, а душа активна, это запись, существующая лишь в действии…
– Душа обязана трудиться, – подсказала мне Люся. – Как это верно!
– Она существует в действии и сама подбирает себе наиболее подходящую форму.
– Все понимаю, – произнесла Люся, по-моему ничего не поняв. – И как вы мою форму находите? Когда-то я потрясала сердца.
– Я вижу то, что хочет видеть моя душа, – уклончиво, тоном молодого священника ответил я.
– О, вы опасная личность, – с неуклюжей, коровьей игривостью произнесла Люся, – я давно это знаю.
Я молчал, тоскуя по своему одиночеству. Несладко Люсе, должно быть, жилось при свекрови и муже, если от смерти она ошалела, как домохозяйка, вырвавшаяся на курорт.
– Извините за нескромный вопрос, – грудным голосом тучной голубки проворковала она, – нам не придется садиться на эту, как ее, на раскаленную сковородку? Я физической боли боюсь.
– Лично мне не приходилось, – сказал я, – но лизать ее я вынужден каждый день. Кстати, сейчас я как раз иду на процедуры, не составите ли мне компанию?
Люся несколько смутилась, и ее хватка ослабла.
– Это безумно интересно, – сказала она дрогнувшим голосом, – я всегда мечтала посмотреть, как это все происходит, но, может быть, не теперь? Я с дороги.
– Сожалею, – проговорил я, – но вынужден с вами расстаться. Мое время подходит.
– А пропустить нельзя?
– Невозможно. Здесь с этим строго.
– В таком случае, – решительно сказала Люся и остановилась, – я подожду вас здесь, на скамеечке. Это долго?
– Полчаса, максимум. Больше я не выдерживаю.
– Бедненький, – нежно и обещающе сказала Люся. – Ну, ступайте, – она сделала попытку меня перекрестить, но заколебалась. – Я найду после способ вас утешить. Это там, где труба?
– Совершенно верно.
– Смотрите-ка, прямо Бухенвальд. Как у них здесь все поставлено! Да, но позвольте, вы не назвали себя по отчеству, а зовут вас, кажется, Виталий. Виталий, а дальше?
Я сделал вид, что не слышу, и бодрым шагом устремился вперед, продираясь сквозь стриженые кусты. По мере того, как я удалялся от Люси, флюиды ее души ослабевали, и контуры санаторного сада с красными дорожками и гипсовыми копиями великих и ничтожных скульптур, с беседками, фонтанчиками и мусорными урнами в виде рогов изобилия все таяли и таяли, пока не растворились в моем солнечном, желтом и хрустком болоте.
Прорвавшись сквозь мелколесье, я вышел на ближайшую времянку. Она оказалась точно такая же, как моя, с той только разницей, что под окошком здесь росли две невысокие толстоствольные пальмы. На одной из них, прямо на жестком перистом листе, сидела серо-желтая цапля. Завидев меня, она щелкнула клювом, раскрыла огромные, как у птеродактиля, крылья и полетела прочь.
Судя по надписи на двери, нацарапанной простым карандашом, здесь обитал мой приятель Гарий Борисович. Никаких объявлений для фоновой группы вывешено не было. Я поднялся на крыльцо и, отворив шаткую дверь, вошел в полумрак, пахнущий восточными благовониями.
Куда девалась скромная обстановка присутственного места с фанерным столом и обоймой пластиковых стульев! Времянка Гарика была отделана с восточной роскошью в стиле графа Монте-Кристо: щелястые стены ее изнутри были обиты синтетическими коврами, с необструганных потолочных балок свисали плюшевые и газовые занавески, пол был застелен ворсистыми одеялами тигровой расцветки, по которым в беспорядке разбросаны были кожаные пуфики и ковровые подушки. Так мне все это, по крайней мере, представлялось. О том, какая картина рисовалась самому хозяину этого роскошного логова, я мог только догадываться. Гарик полулежал в расслабленной позе, облаченный в красный вельветовый халат и, посасывая костяной мундштук огромного, самоварной формы кальяна, время от времени отдавал отрывистые приказания каким-то невидимым мне фигурам, колыхавшимся в сумрачных уголках его выездного воображения. Ноги Гарика были обуты в серебристые дутые сапоги-луноходы с американскими флажками на голенищах. Я понимал, что это всего лишь причудливая рефракция, нет, рефлексия, отражение моего мирка в чужом (так два елочных шарика, висящие рядом, один в другом взаимно отражаются) и что сам Гарий Борисович, скорее всего, видит себя в золоте и шелках среди мрамора и фонтанов, а меня в сером рубище и чалме из заскорузлого полотенца.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Стеклянный крест»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Стеклянный крест» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Стеклянный крест» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.