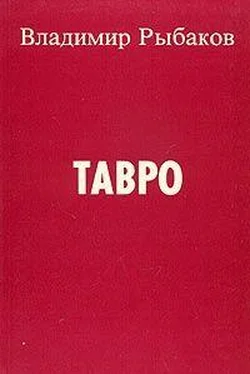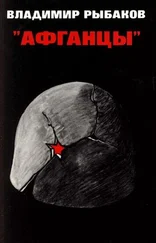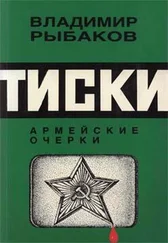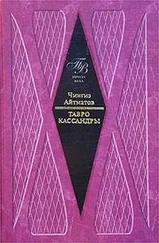— Конечно… метров за двадцать.
— Каким образом?
— Взгляд… нагруженный, походка… тяжелая, ленивая и с пуглинкой. Любопытные глаза на нелюбопытной шее. Ну, что еще? Вы лучше мне скажите, как вы все Россию не отстояли. Я не говорю о монархистах, защищавших живой труп. Но вы, социалист-антимарксист (ведь правда?), вы были победителями в феврале? У вас было большинство в Учредительном собрании. К вам в руки шла страна, и вы ее проворонили…
Мальцев хотел разбудить в собеседнике ярость или хотя бы желание вдохновенно поспорить. Топорков даже не мигнул. Лицо его оставалось будто вне времени, слова вне ума, так сильно было впечатление, что этот человек смеется над мыслью, чужой и своей собственной.
— Вот-вот, молодые теперь все норовят цифрами лупить. Последовательность примитивной логики заманчива своей легкостью. В начале века я был студентом в Петербургском университете. Между лекциями мы сидели всей студенческой братией на подоконниках длинных коридоров. Справа от нас бесилась маленькая кучка черносотенцев, слева — такая же кучка марксистов. Мы смеялись и над теми и над другими. Монархисты и революционеры были нам одинаково чужды и смешны. Монархия отмирала, а марксизм в то время уже становился на Западе очередной едва ли не академической теорией, чем-то вроде нового «Города Солнца» нового Кампанеллы. Он уже уходил, почти все так думали, в архив истории. Началась война, монархия не умерла, а унизительно издохла. Это произошло так быстро, что даже те, кто этого долго ждал, не осознали, не успели понять: после анархии должна прийти диктатура. И мы вместо того, чтобы бороться против еще не определившейся диктатуры, начали строить легальнейшим путем демократическую Россию. Это была политическая ошибка. Но была еще ошибка психологическая. Человек всегда разыскивает в будущем неизвестные ему выгоды. И когда в трудные времена ему предлагают те или иные преимущества, человек сравнивает настоящее с предлагаемым будущим, и часто это будущее так заманчиво, что человек-человечек соглашается ради него поступиться частью своей политической, экономической и личной свободы. Но мы, социалисты, были все равно обречены.
— Почему?
— Потому что еще никто не ответил на вопрос: может ли рождающаяся демократия победить рождающуюся диктатуру.
Мальцев скривился:
— Однако вы не оптимист. Спасибо, что приняли. Я подумаю над вашими словами.
Топорков ничего не ответил. Этот паренек вызвал в нем тоску по чему-то позабытому и сладостному. Это не память по родной земле надела маску чувства… да и было ли такое время, когда он стоял, а хотелось упасть от отчаяния, глядя на поезда, уходящие на восток, в Россию. Он тогда, кажется, плакал. Болело раненное красными плечо… он ли не хотел социализма? Они были на одних выборных листах с большевиками. Союзники!
Топорков перестал перелистывать в уме свое прошлое и ставить, где подсказывала мысль, восклицательные знаки. Он так и не узнал, что только что ушедший советский человек вызвал своими резкими движениями и голосом отрывок юности: его ветхому телу захотелось попасть в ту баньку, куда он ходил с давно позабытым лучшим другом более полувека тому назад — они делали тоги из длинных полотенец и, расхаживая по предбаннику, упорно занимались переустройством общества… Много говорили о Жоресе.
То приятное, что только ворохнулось в груди и ушло, имени своего не назвав, оставило Топоркова равнодушным. Он не верил ни в жизнь, ни в смерть. Ему было только любопытно наблюдать за окружающим его миром — и потому он хотел это делать как можно дольше.
Мальцев спускался по лестнице дома русского социалиста хмуро-задумчивый. Дверь парадного подъезда не открывалась. Мальцев с силой рванул. Не поддавалась. «Даже выпить не дал. Чаю не предложил. Старая коряга!» Вспомнив, что во Франции для того, чтобы открыть дверь, необходимо нажать кнопку, Мальцев выругался. Нажал. Вспыхнула над головой лампочка. Сплюнул. Нажал другую. Дверь щелкнула замком и выпустила его восвояси. «Будь ты проклята!»
Что? Кто?.. Не дверь же.
Топорков все же поразил воображение Мальцева. Тучка точно над его головой сильно побурела. Мальцев улыбнулся ей своими толстыми губами — глазами не захотел. Тучка выцвела. Она играла с ним свою игру с помощью солнца. Пусть. Не забавлялся ли с ним Топорков с помощью истории? Действительно ли марксизм становился в конце века очередной философией, умело критикующей настоящее и наивно возвышающей будущее? В конце концов народные массы взаимодействуют не через сочинения философов.
Читать дальше